 Советские служащие
Советские служащие
Автор: Михаил Глебов, 1999
Издержки предметного мышления
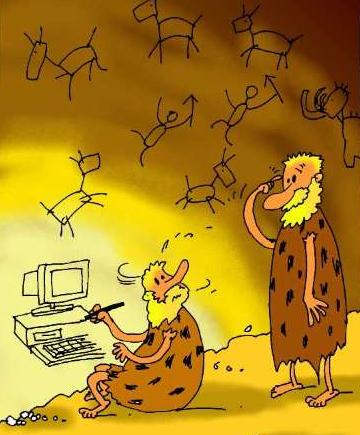 Мы живем, действуем, смотрим вокруг себя, принимаем участие в различных событиях. Все встреченные нами факты навеки запечатлеваются в памяти подобно фотоснимкам. Однако в этом отношении между развитыми и неразвитыми людьми существует большая разница.
Мы живем, действуем, смотрим вокруг себя, принимаем участие в различных событиях. Все встреченные нами факты навеки запечатлеваются в памяти подобно фотоснимкам. Однако в этом отношении между развитыми и неразвитыми людьми существует большая разница.
Ибо первые осмысливают каждый факт, да еще, вспоминая о нем впоследствии, в ретроспективе, словно встраивают его в общую картину жизни, подобно тому как издатель фотоальбома упорядочивает снимки и дает каждому комментарий. Поэтому воспоминания развитого человека содержат столько же фактов, сколько пояснений. И чем сознание его совершеннее, тем больше в его воспоминаниях будет анализа и меньше пустых деталей. Да и сами эти подробности становятся лишь отправной точкой его рассуждений, а также иллюстрацией к ним. Из этого явствует умение развитого человека не только постигать суть конкретного события, но находить ему место в логической цепи следующих друг за другом событий, следовательно, постигать его значение в достаточно широкой ретроспективе и в связи со множеством сторонних фактов. Воспоминания такого человека превращаются в увлекательный связный рассказ, где не существует лишних деталей, но каждая занимает присущее ей место, словно звенья в единой цепи.
С другой стороны, развитый человек, становясь на точку зрения слушателей и предвидя их возможные вопросы, с готовностью освещает побочные обстоятельства, так что основная тема рассказа выходит яркой и выпуклой, словно скульптура в центре музейного зала. Цель же воспоминаний развитого человека редко состоит в простой передаче фактов, но большей частью имеет, так сказать, дидактическое значение: он стремится посредством этих воспоминаний донести до слушателя какую-нибудь мысль. Поэтому сами воспоминания оказываются в его руках лишь служебным орудием.
Так обстоит дело с людьми, хотя бы несколько развившими свою рациональность. Но там, где она вовсе не развита, господствует предметное мышление, достигающее абсолютной полноты у животных. Сведенборг подробно описывает их состояние, лишенное всякой рациональности. Для них нет ни прошлого, ни будущего, ни мыслей, ни осознанных целей. Они живут исключительно здесь и сейчас, совершая поступки под действием текущей необходимости. Когда весной на птиц нисходит наитие из Духовного Мира, они начинают вить гнезда. Но за минуту до этого снисхождения они вовсе не помнят о гнездах и не продумывают порядка работ. Когда собака сыта, она не вспоминает о еде, проголодавшись же, сосредотачивается на ее поиске.
В результате память животного представляет хронологически и логически не упорядоченный набор фотоснимков пережитых им состояний. Когда животное попадает в ситуацию, чем-либо схожую с той, что хранится в его памяти, оно идентифицирует обе эти ситуации и действует соответственно. Опытный человек, гладя развалившуюся на его коленях чужую кошку и приметив, что она внезапно напряглась, уберет руки. Ибо он, не зная того, совершил какое-то движение, напомнившее кошке случай, когда ей сделали больно, и теперь она готова защищаться. В действиях кошки не заметно никакой логической обоснованности, а лишь мышление по аналогии. В этом, кстати, заключается одна из причин того, что люди неохотно берут в дом чужое взрослое животное, предпочитая самостоятельно выращивать его с детства. Тогда они будут в некоторой степени гарантированы от неожиданностей его поведения.
Что касается памяти духовно неразвитых людей, она занимает некое промежуточное положение между двумя вышеописанными крайностями. В ней, конечно, присутствует известная логическая и хронологическая связность, однако их вернее всего уподобить зыбкому пламени свечи.
Человек развитый, вспоминая о каких-либо событиях, дает им яркое дневное освещение, позволяющее рассмотреть их в целом и в частностях, во всех ракурсах и - главное - с соблюдением верных пропорций между ними. Но те же события в устах неразвитого человека погружены в непроницаемый мрак. Рассказчик, вооружившись карманным фонариком, бродит у их подножья, выхватывая тусклым лучом ближайшие мелкие детали, которые оттого непропорционально выпячиваются. Основная же глыба событий прячется во мраке, а причудливо колышущиеся тени от фонаря порождают множество ложных иллюзий, которые являются неотъемлемым свойством всякой ночи.
Следствием такого способа восприятия оказывается абсолютная нестыковка воспоминаний разных участников об одном и том же событии. На ум приходит старый анекдот о нескольких слепых, которые захотели узнать, как выглядит слон. Подойдя к нему и ощупывая каждый со своей стороны, они сравнивали слона с корявым стволом дерева (ноги), с пожарным шлангом (хобот), с канатом (хвост), с большими лопухами (уши) и т.п. Каждый был по-своему прав, высвечивая фонариком ближайшую к нему деталь; ошибка же состояла в попытке распространить свойства, присущие одному случайному фрагменту большого предмета, на весь этот предмет в целом. Это, в сущности, есть ошибка экстраполяции, или желание судить о целом по какой-либо его частности.
Мир, в котором живет всякий обыватель, до крайности узок и мал. В нем нет общих закономерностей, а есть конкретные предметы с их совершенно конкретными свойствами. Но даже эти конкретные предметы оцениваются не сами по себе, не объективно, но исключительно в отношении к личности данного обывателя. Если ему неприятен какой-либо человек или предмет, он с полной убежденностью объявляет его вредным или ненужным, не желая понимать, что для других людей и других целей эти отвергнутые им предметы могут оказаться очень даже полезными. Ибо де-факто он почитает себя центром вселенной и мерилом всего, в ней находящегося, хотя сознательно не видит этой своей особенности и тем более не утверждает ее вслух.
Известно, что в мире не существует ни одной абсолютно негодной вещи, поскольку каждая из них назначена Господом исполнять ту или иную службу (пусть даже злую). Следовательно, мы не имеем права говорить о вещах полезных или вредных вообще, но обязаны пояснять, для чего именно они оказываются полезны или вредны. Чем шире у человека кругозор, тем больше он видит вариантов использования всякой вещи и, следовательно, тем менее склонен огульно охаивать эту вещь.
Если же обыватель не замечает ничего, кроме собственной драгоценной личности, то оценки всех окружающих его предметов неизбежно принимают абсолютный характер. Они варьируются по знаку и по размеру. Знак (плюс или минус) зависит единственно от того, подыгрывает ли данное обстоятельство вкусам обывателя или противоречит им. Размер характеризует степень влияния данного фактора на жизнь обывателя: чем активнее он на него воздействует, тем большее место займет в его воспоминаниях, хотя бы со стороны выглядел вовсе ничтожным. И напротив, чем влияние объективно важного фактора на мещанина меньше, тем бледнее запечатлевается он в его памяти.
В итоге получается своеобразный вариант солнечной системы. В центре ее, самодовольно уставившись на свой пуп, сидит обыватель, а все события, словно планеты, вращаются вокруг по более или менее удаленным орбитам, и чем орбита удаленнее, тем событие видно хуже.
Мозаичность мышления
Из этой примитивности и самовлюбленности вытекает исключительно неприятное свойство обывательского мышления, состоящее в отсутствии цельного, связного, упорядоченного мировоззрения. Бесчисленные клочки школьных знаний, осколки чужих мыслей, картинки собственного опыта, на каждом шагу противоречащие друг другу, заполняют черепную коробку мещанина, произвольно пересыпаясь там из угла в угол, словно стекляшки в детском калейдоскопе.
Для мыслящего человека такое состояние абсолютно нетерпимо, потому что все его мысли в конечном счете нацелены на создание определенной системы взглядов (другое дело, что она сплошь и рядом оказывается ложной). Если же человек вовсе не мыслит, ему столь же мало дела до беспорядка в собственной голове, как мне - до беспорядка на балконе соседа. Ибо мыслить - значит отвлекаться от собственного драгоценного "я" и концентрировать внимание на различных не относящихся к этому "я" предметах (иначе их невозможно понять). Но обывателю интересен только и единственно он сам; все остальное, как мы видели в предыдущей главе, занимает его лишь в связи с собственной персоной и пропорционально влиянию на нее. Такой избирательный подход к окружающим реалиям категорически препятствует созданию какой бы то ни было системы взглядов, кроме того глубочайшего убеждения, что все эти реалии призваны ему служить.
В практическом плане отсюда вытекает неспособность отличать принципиально важные вещи от тех мелких частностей, с которыми обыватель соприкасается в данный момент. Басня о свинье под дубом написана как раз по этому случаю. Ведь желуди свинья непосредственно ест, а тот факт, что они падают с дуба, слишком отдален от ее рта, чтобы утруждать себя разбирательством.
Рассказывают, что Пржевальский, путешествуя по Тянь-Шаню и расспрашивая местных жителей о названиях снежных вершин, долго удивлялся, что все они зовутся "белой горой", "высокой горой" и не имеют нормальных собственных имен. Наконец его осенило, и он поинтересовался, как называется тот бугорок за аулом, где паслись овцы. Первый же встречный житель без запинки ответил на вопрос. Люди проявляли интерес к полезному в хозяйстве бугорку и до такой степени пренебрегали заслоняющей горизонт, но хозяйственно-бесполезной вершиной, что даже поленились дать ей имя!
Однажды я решил пройти пешком с Воробьевых гор на Кутузовский проспект через Потылиху. Этот стоящий на отшибе, окруженный пустырями и железнодорожными путями микрорайон в то время поддерживал единственную связь с городом через узкий проезд и Бережковскую набережную, где ходил автобус. Однако за лощиной, по дну которой звенели электрички, ясно виднелись корпуса Кутузовского проспекта. Отчаявшись самостоятельно пробраться туда через помойки и гаражи, я спросил дорогу у трех местных женщин, возвращавшихся с Киевского рынка. Женщин мой вопрос озадачил. Они не знали никакого Кутузовского проспекта, знали только узкую извилистую тропку, по которой всегда ходили на рынок. Ибо рынок относился к их реальной жизни, вкупе со своей тропинкой, а Кутузовский проспект, несмотря на свое общегородское значение и даже тот факт, что его дома вечно маячили перед глазами, не приносил им никакой конкретной пользы. Следовательно, знание о нем лишь напрасно засоряло голову.
В 1984 году я отправился в путешествие по Средней Азии. Поезд тащился на Ашхабад через бескрайние пустыни с белыми солончаками, черными разливами нефти, песчаными барханами, саксаулом, могильными курганами и руслами пересохших рек. Я, словно часовой, дежурил с фотоаппаратом у окна, вызывая неудовольствие попутчиков, упорно желавших перекинуться со мной в дурака. Наконец я объяснил им, что вижу пустыню в первый раз в жизни. Мне ответили, что они тоже ее видят впервые, но жить в ней не собираются, и потому она им совершенно не интересна. Воистину, как говорил незабвенный Кола Брюньон, "люди у нас ленивы и нелюбопытны"! Следует лишь уточнить: нелюбопытны ко всему, что не касается напрямую их шкуры.
Другой отвратительной чертой обывательского мышления является странная убежденность в том, что можно, думая о чем-нибудь, внезапно высказать нечто из середины своей мысли собеседнику, и он поймет. Эти люди до такой степени опьянены своей значимостью, что требуют от окружающих понимания без объяснения. Вроде как солдат, чем бы ни занимался, при появлении генерала должен бросить свои дела и вытянуться в струнку. Наш обыватель мыслит, и ему кажется, что окружающие телепатически (благоговейно) постигают его мысли, так что возможно начать их обсуждение с любого места. Когда же его не понимают, он чувствует глубокое оскорбление.
На улице меня часто спрашивают дорогу, и по крайней мере каждый третий случай приводит к диалогу наподобие следующего. Я шел по Комсомольскому проспекту. Навстречу спешили женщины с сумками, и одна спросила:
- Простите, где Фрунзенская?
- Фрунзенская - что? Метро, набережная, улица?
- Улица.
- Фрунзенских улиц три, которая вам нужна?
- Третья Фрунзенская.
- Вот она идет поперек проспекта направо и налево. Что именно вам нужно?
- Дом три.
Как будто я знаю все дома по их номерам! Хоть бы какой ориентир назвали: что в этом доме находится? Но задавать новые вопросы я уже не решился и, прикинув, откуда начинается нумерация, махнул рукой вправо. Женщины, сухо поблагодарив и негодуя на мою бестолковость, удалились. Они шли по известному им адресу и чувствовали так, будто этот адрес написан у них на лбу. Поэтому каждый встречный, глядя на их лоб, должен был указывать верное направление, не задавая лишних вопросов. Подобный идиотизм взрослых и психически нормальных людей может быть объяснен одной лишь их узколобой самовлюбленностью.
Еще хуже бывает, когда не они тебя, а ты их расспрашиваешь. Здесь возникает эффект слоновьего хвоста, как это легко представимо в мультфильме: из мышиной норки торчит кончик; берешь его двумя пальцами и тянешь; но кончик становится все толще, вытягивается все дальше, а потом - в результате последнего усилия - вдруг выдергивается весь слон. Особенно часто подобные ситуации возникают на работе. Чувствуешь неладное, спрашиваешь ответственного сотрудника и узнаешь какую-нибудь сущую мелочь. Уцепившись за нее, расследуешь дальше, словно клещами вытаскивая из человека ответы; и чем дальше спрашиваешь, тем серьезнее оказывается дело, пока наконец не откроется весь слон. Причем сотрудник, глядя ясными глазами, не понимает причин тревоги. Его побеспокоила некая мелочь, - он о ней и доложил. А что за этой крупинкой скрывается целая гора, - так это, извините, не его компетенция. Он о ней даже не задумывался.
Доморощенная историография
Гипнотизер говорит обывателю:
- Даю установку: при счете "десять"
вам станет мучительно больно за бесцельно прожитые годы…
Копаясь в собственной родословной, сталкиваешься со множеством разноплановых трудностей. Ибо семейное прошлое рядового советского служащего существует, как правило, лишь в устной традиции. Никто не вел дневников, не сочинял мемуаров. Старые письма из осторожности давно уничтожены, документы пылятся в тайниках за комодом, неподписанные фотографии чужих, незнакомых лиц в беспорядке навалены по коробкам. Устная же традиция сохраняется в памяти пожилых людей, седина и житейская опытность которых лишь маскируют ту духовную нищету, о которой я пространно говорил выше. Эти старцы, подобно сказителям древности, бряцают на гуслях и несут чушь, многократно перепутанную по годам и лицам, а безнадежно одолевающий их склероз еще усугубляет неразбериху.
Чтобы хоть немного ввести их в рациональное русло, помогают (1) альбомы допотопных фотографий, на которых обнаруживаются еще некоторые выпавшие из памяти родственники, вкупе с наиболее скандальными обстоятельствами их жизни, и (2) просьбы рассказать о различных прежде слышанных эпизодах (чтобы сравнением вариантов проверить достоверность деталей).
Чрезвычайно затрудняет дело ряд обстоятельств. Во-первых, сказитель совершенно не в состоянии излагать материал в связной логической последовательности. Он вспоминает то одно, то другое, вновь возвращается к первому и непрестанно сам себе противоречит. Складывается впечатление, что прошлое семьи в его голове состоит из множества мелких кусочков, они все перемешаны и вываливаются наружу в случайном порядке.
Во-вторых, отсутствуют личностные характеристики персонажей. Мы можем узнать, что данный предок работал в таком-то учреждении и родил таких-то детей, но его душа почти всегда остается за кадром. (В лучшем случае нам лаконично пояснят, что он был негодяем или очень хорошим человеком). Все эти люди, с подшитыми к ним фактами и датами, выходят безликими, словно элементы таблицы Менделеева.
В-третьих, добрую половину семейных сказаний составляет то, что специалисты по теории информации называют шумом, т.е. пустые, ложные или не относящиеся к делу сведения. Реальные факты густо сдобрены слухами и личным недоброжелательством как самого сказителя, так и тех лиц, слова которых он некритически запомнил.
Наконец, сказители - люди капризные; они будут досаждать окружающим своими баснями ровно до тех пор, пока кто-нибудь не проявит к ним интерес. С этого момента рассказчик сознает свою значимость и начинает привередничать, всеми способами набивая себе цену. В особенности становится худо, когда он видит, что его слова записывают. Кроме того, столкнувшись с чужой заинтересованностью, старики настораживаются в опасении подвоха. С детства привыкшие стоять каждый за себя и бояться предательства самых близких людей (если бы оно вдруг оказалось им выгодным), они всячески удерживают свои карты закрытыми, не желая понять, что до этих музейных карт никому уже давно нет дела.
Надерганная по кускам информация сваливается в один общий файл, являя собою записки сумасшедшего в конспективной форме. Все это - лишь руда, добытая вслепую из карьера; теперь ее надо обогащать. Завершив полевой сезон, археолог усаживается в своем кабинете над грудой древних бус, костей и битых горшков, и достает лупу. Некоторые черепки оказываются от унитаза, и он их выкидывает. Отобранные экспонаты так пристыковываются друг к другу, чтобы вышла по возможности цельная картина жизни неандертальца. Зазоры между ними домысливаются по интерполяции, с определенным риском уронить в этот зазор что-нибудь существенное. Иногда в картине обнаруживается крупная прореха, для затыкания которой снаряжается дополнительная экспедиция.
Идет время, и гора отрывочных, противоречивых сведений начинает складываться в связное повествование. Немногие твердо известные факты, расставленные по хронологии и согласованные между собой, дают редкую, но прочную канву, по которой начинает плестись узор психологической характеристики. На этой стадии совершенно незаменимо личное впечатление от описываемого человека, пусть даже встреча с ним была мимолетной. Это впечатление, которое можно припомнить и проанализировать, становится буквой в пустом кроссворде, помогающей угадать целое слово. К личному впечатлению последовательно пристыковываются взятые из семейного предания факты биографии, и человек оживает. Если же он умер так давно, что личной памяти о нем не осталось, картинка выходит тусклой и зыбкой, и часто ее даже бессмысленно начинать.
Однако сочинитель домашней истории должен примириться с тем раздражающим фактом, что он, как бы ни старался, не может претендовать на абсолютную достоверность и непогрешимость. Ибо всякий человек толком не знает даже самого себя, и через известные отрезки времени склонен переоценивать собственные поступки. Тем более ему не могут быть достоверно известны побуждения других людей, особенно если он встречался с ними в детстве или не встречался вообще. Критерия истинности здесь никакого нет, кроме здравого смысла да интуиции.
Так что реконструированные мною биографические данные, психологические и духовные характеристики людей по необходимости остаются сомнительными. Я знал некоего человека лично, слышал о нем беспорядочные, противоречивые рассказы, видел фотографии и затем оценил всю эту сборную солянку с позиций личного опыта. Возможно, моего опыта оказалось недостаточно. Возможно, я слышал рассказы о второстепенных моментах его жизни и ничего не знаю о других, гораздо более серьезных, но оставшихся за кадром. Возможно, этот человек фактически играл в жизни семьи совершенно иную роль, нежели ему теперь приписывают. Не исключено, что прогрессирующий склероз и неразвитость рассказчика перепутали некоторые события, приписали их другому лицу, поместили в другое время. Все это вполне вероятно, и крыть нам эти вероятности нечем.
С другой стороны, гораздо лучше знать хоть что-то, чем не знать вообще ничего. За какой бы вопрос мы ни взялись, нигде заведомо не сможем докопаться до дна. Всякое наше знание поневоле оказывается половинчатым, сомнительным и неполным. На это нужно смотреть спокойно и принимать как данность. Ни Колумб, ни Веспуччи не могли толком нанести открытый ими континент на карту, но отсюда вовсе не следует, что они плавали зря. [...]