 "Новая жизнь" и "превращения"
"Новая жизнь" и "превращения"
Автор: Михаил Глебов, октябрь 2003
Hадежд несбывшихся петля
Hа шее все плотней.
Так сколько же я прожил зря
За эти годы дней?
(А.Котельников)
Единожды возникнув, регламенты чтения книг, регламенты разборок имущества и регламенты режима дня, вкупе с некоторыми другими регламентами (например, касающимися отдельных садовых работ), в такой степени опутали мою домашнюю жизнь (точнее, мою личную жизнь, которая вынужденно совпадала с домашней), что я уже шагу не мог ступить, не озираясь на собственные сочиненные правила. Ясно, что вся эта "законодательная вакханалия" являлась крайней (даже карикатурной) формой самопромышления.
Ибо термин "самопромышление" означает жажду человека самому управлять собой и своей жизнью, без вмешательства других людей, Бога и вообще кого бы то ни было. А так как "руководить - значит предвидеть", в самопромышлении любого человека огромную роль играют всевозможные планы и задумки вперед. Все они огрубленно делятся на две категории: активные и пассивные. К первым относятся замыслы конкретных действий: к примеру, каким образом клерку занять место директора фирмы. Вторые больше сосредоточены на работе индивидуума над собой, наилучшим примером чему являются пресловутые "режимы дня". Из этого ясно, что "активные" планы служат для непосредственного достижения желанной цели, тогда как "пассивные" оказываются вспомогательными средствами, как на войне тыл обеспечивает успешные действия фронта. Поэтому чем больше у самопромышляющего человека реальной свободы действий, чем полнее развязаны его руки, тем больший удельный вес приобретают "активные" планы, подобием чему служат размашистые операции маневренной войны. Напротив, если руки у человека связаны неблагоприятными обстоятельствами, он поневоле переносит центр тяжести на "пассивные" планы, подобием чему служит позиционная война. А так как мои руки были связаны в максимально возможной степени, планировать что-либо "активное" я мог разве на даче касательно очередного крапивника; оттого вся энергия самопромышления уходила в "пассивные" планы по работе над собой, которые и материализовывались в бесконечных регламентах.
Но поскольку все эти правила вырабатывались одним и тем же мной и ко мне же относились, уже с первых шагов стала вырисовываться необходимость как-то увязать их все вместе, чтобы всякий отдельный регламент отвечал за свою сторону единого правильного образа жизни. И здесь как нельзя кстати пришелся феномен "начинания новой жизни" - бич всех интеллигентов прошлого, настоящего и будущего. В своих рассуждениях я исходил из того, что до сих пор, вследствие неисчислимого множества причин, моя жизнь текла и доселе течет неправильно, неэффективно, неразумно (здесь можно подставить любое количество эпитетов), и оттого я на каждом шагу терплю лишние неприятности и, напротив, упускаю много хороших вещей, которыми при ином раскладе мог бы наслаждаться. Все это положение в совокупности именовалось "старой жизнью", от которой я должен был, собравши силы в единый кулак, одним героическим рывком перейти к "новой жизни", где минусов почти не было, а плюсы росли на каждом встречном кусте.
Средствами же такого рывка были (1) уразумение существующего положения дел со всеми его причинно-следственными связями, (2) выработка силы воли, как своего ударного оружия, и (3) создание рациональных правил житья-бытья, которые экономили бы мои силы и не отвлекали внимания от действительно важных дел на всякую суету. Первая задача достигалась интенсивными размышлениями и также углублением в собственную историю, вторую я решал принуждением себя действовать согласно регламентам, третью составляли эти же самые регламенты, шлифовавшиеся день ото дня. В действительности же все три поставленных цели де-факто были совершенно недосягаемы. Ибо (1) уразуметь ситуацию по большому счету я не мог в принципе, ибо рассуждал исходя из чисто земных реалий, тогда как настоящие причины событий вытекали из религии и прятались на духовном уровне; (2) "силу воли" я не мог выработать по причинам, детально рассмотренным [в одной из предыдущих глав]; и (3) создание рациональных правил на все случаи жизни невозможно, как нельзя придумать одежду, одинаково подходящую для всех погодных условий и видов деятельности.
Таким образом, я выступил в поход с заведомо негодными средствами, и их негодность достаточно подтвердилась хотя бы тем несомненным фактом, что, невзирая на все многолетние усилия, дело так и не сдвинулось с мертвой точки.
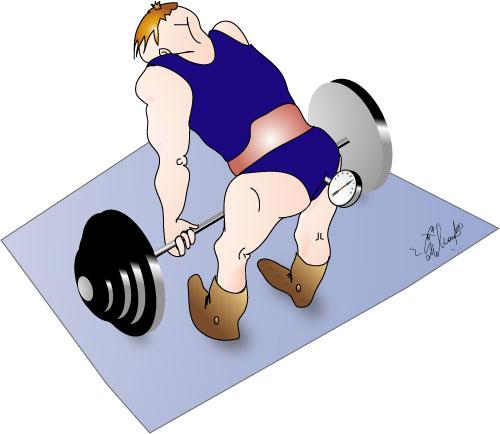
Однако было бы серьезной ошибкой считать, что эти усилия пропали зря. Ибо Господь ведет преобразованных и непреобразованных людей совершенно разными способами: первые уже могут понять, что от них требуется, и исполняют это добровольно, и потому как бы ведутся за руку, лицом вперед; вторые, напротив, всецело управляются своими грешными страстями и ведутся задом наперед посредством попущений. Это значит, что Господь, имея в виду благую цель "А", к которой данный непреобразованный человек никаким образом не может быть направлен добровольно, попускает ему некое (чаще всего грешное) желание "В", и человек устремляется в борьбу за это "В" и даже нередко достигает желаемого; но это вовсе не важно, поскольку одновременно Господь производит в его духе тайные операции, так что в материальном отношении человек остается при своем грешном "В", но в духовном отношении сделал - без своего ведома и как бы задом наперед - несколько необходимых шагов к благой цели "А". Это правило универсально, а у людей преобразующихся может быть найдено в любом эпизоде их биографии.
Ясно, далее, что поскольку моя "регламентная суета" вытекала из самопромышления, ее цели заведомо были грешные, так как полностью исходили из любви к себе и особенно из любви к мiру; и я в те времена заведомо не мог быть подвигнут ни к какой религиозной истине. И потому Господь попустил мне из года в год барахтаться в этом самодельном болоте. Но хотя по внешности результатов у меня не было, в духовном отношении ситуация видится иной. (1) Попытки уразуметь существующее положение интенсивно развивали мое рациональное начало, которое у большинства обывателей находится в перманентной спячке, а смутная вера в существование неких мистических сил, словно фермент, капля по капле направляла кипение умственной каши в сторону принятия религии. (2) Неспособность принудить себя к выполнению регламентов наглядно выявляла мою человеческую немощь, ибо сказано: "Без Меня не можете делать ничего". (3) Сочинение регламентов таило в себе многие полезные аспекты, ибо оно приучало меня вдумываться в каждое конкретное действие, а не копировать его слепо у тех же родителей; приучало на каждом шагу задавать необходимый вопрос "зачем?"; также приучало к аккуратности и добросовестности в выполнении любого маловажного дела, и т.п.
Одним словом, хотя моя "работа над собой" совершенно не достигла мiрских целей, которые я перед нею сознательно ставил, она в то же время, тайно от меня, принесла очень много полезного в деле развития моей личности и в подготовке ее перехода на религиозные рельсы. Иначе говоря, вся описываемая здесь возня являлась ни чем иным, как самой начальной стадией преобразования - до такой степени начальной, что выполнялась всецело в рамках атеизма и, так сказать, "задом наперед". При этом, поглощенный борьбою с самим собой, я пропорционально ослабил натиск на внешнем фронте, хотя моей сознательной целью все время оставался именно внешний успех; и это дополнительно изолировало меня от контакта с той обывательской трясиной, в которую я безрассудно стремился душой. В результате моя "капсула", или мой домашний "футляр", прежде чисто вынужденный, т.е. порожденный неприязненным отношением ко мне сверстников, теперь еще более укрепился возникновением центростремительных сил, хотя, повторяю, сознательно эти силы культивировались мной с прямо противоположной целью, т.е. ради прорыва стенок "футляра" и выхода на житейский оперативный простор.
* * *
 Выше рассказывалось о том, что вся совокупность разнородных регламентов, сочинявшихся мною касательно "разборок имущества", "режима дня" и других аналогичных вопросов, очень скоро была увязана воедино понятием "новая жизнь"; и это была такая жизнь, когда все наличные регламенты в точности исполнялись. Ибо все они понимались мною как отдельные шестеренки единого боевого механизма, которому надлежало триумфально ввезти меня в царство счастья; точно так же в автомобиле, чтобы он ехал, сперва должна быть отрегулирована вся механика, и лишь потом водитель может выруливать на шоссе. А отсюда следовало, что вводить всю массу регламентов в действие требовалось единовременно, ибо только их совместное действие могло сдвинуть дело с мертвой точки. Следовательно, "старая жизнь", по моему разумению, не трансформировалась в "новую" постепенно, шаг за шагом, а уступала свое место мгновенно, словно темнота - свету, когда в ночной комнате щелкнули выключателем. И самый этот момент мгновенного перехода был вполне справедливо назван мной "превращением".
Выше рассказывалось о том, что вся совокупность разнородных регламентов, сочинявшихся мною касательно "разборок имущества", "режима дня" и других аналогичных вопросов, очень скоро была увязана воедино понятием "новая жизнь"; и это была такая жизнь, когда все наличные регламенты в точности исполнялись. Ибо все они понимались мною как отдельные шестеренки единого боевого механизма, которому надлежало триумфально ввезти меня в царство счастья; точно так же в автомобиле, чтобы он ехал, сперва должна быть отрегулирована вся механика, и лишь потом водитель может выруливать на шоссе. А отсюда следовало, что вводить всю массу регламентов в действие требовалось единовременно, ибо только их совместное действие могло сдвинуть дело с мертвой точки. Следовательно, "старая жизнь", по моему разумению, не трансформировалась в "новую" постепенно, шаг за шагом, а уступала свое место мгновенно, словно темнота - свету, когда в ночной комнате щелкнули выключателем. И самый этот момент мгновенного перехода был вполне справедливо назван мной "превращением".
Всякому разумному человеку ясно, что столь крайний максималистский подход ("детская болезнь левизны в коммунизме", по выражению Ленина), даже не затрагивая духовных реалий, противоречил всем законам человеческой психологии и потому был абсолютно невыполним. В самом деле, хотя упомянутый выше автомобиль действительно нуждается для движения в полностью собранном механизме, но ведь этот механизм не возникает из воздуха, а шаг за шагом комплектуется на конвейере из тьмы отдельных деталей, каждая из которых, в свою очередь, была кем-то произведена и доставлена к сборочной линии. С человеком же обстоит еще гораздо сложнее: правда, что его можно мгновенно убить, искалечить, посадить в тюрьму, осыпать деньгами и произвести любые другие чисто внешние действия, в коих он является страдательной стороной; но подвигнуть его на добровольное мгновенное изменение привычек, стиля поведения и образа жизни не получится ни у какого фокусника, ибо само понятие "добровольность" вытекает из "доброй воли", т.е. согласия его воли (а не только разума, который сам по себе бессилен); воля же есть категория духовная, изменяемая очень трудно и медленно; в противном случае не было бы никакой надобности в длительных процессах преобразования и возрождения. Отсюда ясно, что желающий мгновенно "превратиться в нового человека" ставит себе задачу, непосильную даже Всемогущему Богу, Который не может действовать против Законов Своего Порядка.
С другой стороны, психологическая причина такой "леворадикальной" методики хорошо понятна. Во-первых, всякий человек, имеющий сильное желание чего-либо, менее всего склонен ждать, в особенности долго, но хочет получить желаемое в руки прямо сейчас. Во-вторых, он не без основания полагает, что единовременное спринтерское усилие по перескоку в "новую жизнь" при любом раскладе окажется много легче в сравнении с многолетним изматывающим стайерским трудом по работе над собой. В-третьих, героический натиск мобилизует в помощь человеку эмоциональную составляющую, которая не может присутствовать в обстановке скучной позиционной войны. Если же, при всем этом, человек и догадывается, что фактически сделал ставку на чудо, то, в-четвертых, будучи непреобразованным и оттого испытывая безграничную веру в свои силы, он искренне затрудняется определить границы своей дееспособности, как и любой из нас, никогда не бегавший стометровку (и не зная рекордов на этой дистанции), затруднится предположить, каким мог бы быть его собственный результат.
В результате осенью 1976 года я вступил в длительную изматывающую полосу "превращений"; они с большой интенсивностью практиковались до 1981 года (когда мое внимание оказалось приковано к вопросам любви и дружбы), но и после того, уже эпизодически, эта волынка тянулась, вероятно, до тридцатилетнего возраста. Ибо уж слишком заманчивой казалась идея, вопреки рассудку и тысячекратным неудачам, единым прыжком достичь желаемого!
Вообще переходы к "новой жизни" были большие и малые. Первые из них, как правило, приноравливались к подходящей дате: началу месяца, началу или окончанию каникул, или важному праздничному дню; совершенно исключительное место в этом отношении занимал Новый год; на самый худой конец годился ближайший понедельник. Уже за несколько дней до намеченного срока я углублялся в ревизию наличных регламентов, некоторые переписывал заново, другие корректировал, третьи оставлял как есть. Затем следовала "разборка имущества", и далее я обязательно отправлялся мыться, чтобы войти в "новую жизнь" без старой грязи. В сущности, это были наивные попытки крещения, хотя подобное мне и в голову тогда не могло прийти. Весь этот церемониал будет подробно рассмотрен в одной из ближайших глав на примере Нового года.
Но поскольку уже в первые часы "новой жизни" со всей очевидностью выявлялась ее старая сущность, вдогонку с большим упорством повторялись "малые превращения", служившие как бы дополнительными попытками перескочить невзятый рубеж. Здесь, разумеется, никаких новых "разборок" не проводилось, регламенты не пересматривались, и часто я даже обходился без купания. Весь смысл заключался в выборе некоего символического рубежа, перейдя через который, я волшебно освобождался от груза прежней нечистоты и далее мог налегке двигаться вперед. "Малые превращения" нередко происходили по нескольку раз в день, а уж один раз - наверняка; Бог весть, сколько эти психологические встряски отняли у меня сил и нервов.
Символические рубежи могли быть пространственные, временные и ситуационные, как бы я их теперь разделил.
Пространственные рубежи заключались в физическом переходе какой-либо наперед заданной грани, по ту сторону которой уже лежала "новая жизнь". Такие "превращения" практиковались главным образом на прогулках, а в качестве рубежей назначались мосты, подземные переходы улиц, пересечение порога школы, выход из квартиры или вход в нее, вход на эскалатор метро и т.д. Подобным же рубежом служил почти всякий отъезд на дачу или, напротив, возвращение в Москву; если же на пути я обнаруживал, что и десяти минут не смог удержаться на высоте положения, к моим услугам была граница Москвы, где в момент переезда кольцевой дороги превращение повторялось. Хороши в этом отношении были и железнодорожные переезды, особенно после долгого стояния перед закрытым шлагбаумом.
Приближаясь к намеченному рубежу, я делал строгое лицо и избегал оборачиваться, ибо позади у меня лежало "проклятое прошлое", но в то же время старался в оставшиеся полминуты умственно пробежать всю свою предшествующую жизнь, как бы прощаясь с ней. Четким чеканным шагом, глядя прямо перед собой, я пересекал волшебную грань и далее старался поскорее свернуть за угол, чтобы не страшиться ненароком взглянуть назад. В это время настроение у меня делалось приподнятым, ибо все тяготы прежней жизни остались далеко за спиной.
Временные рубежи назначались реже и почти всегда были связаны с полуночью - хотя, если мне уж очень приспичивало, годился любой ближайший час. В моей комнате возле кровати имелась розетка радио; я купил простенькие наушники, чтобы, подобно деду, отдыхать и между тем слушать новости; это нередко даже записывалось в режим дня; однако в действительности наушники использовались исключительно ради "превращений", ибо Первая программа ежечасно транслировала сигналы точного времени, а в полночь, сверх того, звучал государственный гимн. В принципе, я мог довольствоваться и боем домашних часов, но их, к несчастью, было двое, и дедовы стенные часы никогда в точности не сходились с кухонными ходиками; в результате "превращения", осуществленные по этим часам, считались недействительными. Но радио не могло ошибаться; уже минут за десять до срока я делал постную физиономию, вспоминал свое прошлое, затем, словно мертвец, недвижно укладывался на кровать (шевелиться категорически запрещалось, даже нос почесать) и с трепетом внимал бою кремлевских курантов.
Ситуационные рубежи возникали в тех исключительных случаях, когда я отчаивался добиться толку более привычными способами. Помню один уникальный случай, как, воротясь из школы, я решил "превратиться" теперь уже наверняка, выпив стакан совершенно невообразимой дряни. Туда были намешаны остатки соуса из нескольких банок овощных консервов, подсолнечное масло и что-то еще. Получилась бурая, маслянистая и дурно пахнущая жидкость; я не отважился ее выпить и, проклиная себя за безволие, спустил в унитаз. Гораздо чаще в дело шли малюсенькие стопки виноградного вина; несколько початых бутылок всегда хранилось в темном шкафу в ожидании ближайшего праздника, и я, в принципе не испытывая тяги к спиртному, смаковал эту стопку капля за каплей, и уж заодно приобщался к "новой жизни". А поскольку убыль вина от таких экспериментов была ничтожна, родители ее ни разу не заметили.
Несколько позже - уже на исходе 1977 года, когда меня охватила паническая боязнь скорого поступления в институт (куда я, при моем безволии, запросто мог не попасть и тогда угодить в армию), - я пристрастился к ритуальным переходам через Окружной (Андреевский) железнодорожный мост, которые затем с убывающей частотой практиковались достаточно долго. В то время я полюбил ненастья, которых прежде мистически боялся, и также сумерки, ибо они идеально отвечали моему мрачному настроению. Я дожидался начала сумерек, когда покрытое тучами небо слегка начинало темнеть, и, сделав сосредоточенное лицо, медленным шагом выходил из дома на улицу. Мой путь лежал к набережной и затем вдоль парапета до Третьей Фрунзенской; в это время я повторял наизусть регламенты и агитировал себя не сдаваться. Поворот на Третью Фрунзенскую символизировал возвращение в детство; я шел до нашего прежнего дома, где протекли первые пять лет моей жизни, и иногда проходил под окнами, а иногда через двор; здесь был самый душещипательный участок маршрута. В окнах зажигались огоньки, и я представлял, будто сижу там, за стеклами, маленький и рисую свою чепуху. К этому времени сумерки достигали своей максимальной сладости, т.е. на улице уже почти стемнело, но фонари еще не зажглись. Вообще я старался проделать свой путь с такой скоростью, чтобы они, по возможности, не успели зажечься до пересечения моста.
От нашей старой квартиры я по закоулкам выходил на Фрунзенский (Хамовнический) вал; косая дорожка вела от автобусной остановки к узкой каменной лестнице, по дуге восходившей на Окружной мост. Тут уже все шутки кончались; оборачиваться более было нельзя; держа голову прямо и ритмично дыша, я без остановок поднимался наверх по ступеням.

Небольшой отрезок пути до ближайшей гранитной башенки использовался для произнесения клятвы, за башенкой начинался шаткий деревянный настил до другого берега, в щели которого просвечивала речная вода. Я шел истуканом вперед, стараясь не думать ни о чем постороннем; если же навстречу мне с грохотом двигался товарный состав, сострясавший конструкции до самых основ, это казалось символом нелегкой борьбы за будущее счастье.

Противоположная башня моста была входом в "новую жизнь", а стоявший немного далее въездной светофор, почти всегда красный, символизировал невозможность возврата вспять. Возле мачты этого светофора, в тесном месте, стоял железный элетрошкаф, внутри которого что-то зловеще шуршало и щелкало. Это были несчастья, угрожавшие мне в случае отступничества.
Узкая тропка несколькими разбитыми лестничными маршами взбегала из Андреевского оврага к зеленому дощатому забору, обрамлявшему Нескучный сад; ныне все эти вещи начисто съедены сооружениями Третьего кольца. Поверху вела приятная асфальтовая дорожка, обсаженная желтыми акациями и красными рябинами, по ней я выходил к Ленинскому проспекту (тут фонарям уже можно было зажигаться), переходил его по давно уничтоженному переходу в створе полуциркульных фасадов сталинских домов, глядящих на площадь Гагарина (кажется, тогда как раз устанавливали ему памятник), и далее, вдоль этого же фасада, спешил к метро, чтобы успеть домой до возвращения родителей.
Когда же вскоре нерегулируемый переход через проспект закрыли (слишком машин было много), мой маршрут стал варьироваться: то через Нескучный сад к подземному переходу и далее в тот же павильон метро, то по проспекту направо, над путями железной дороги (ой, только не смотреть обратно, в сторону Окружного моста, откуда пришел!), то вовсе по Воробьевке до станции "Ленинские горы". Зимой был один случай, когда я не захотел подниматься из Андреевского оврага обычным путем, по лестнице, но решил сократить путь и полез на его обледенелый правый склон. До половины высоты я еще как-то добрался, но дальше заскользил и съехал на животе обратно. Я был в слепой ярости и стремился во что бы то ни стало добиться своего, но не мог и только зря извалялся в снегу; а несколько мальчишек стояли у верхней кромки, показывали пальцами и смеялись.