 Зайдем в гости?
Зайдем в гости?
Автор: Михаил Глебов, май 2002
Мы идем по Комсомольскому проспекту с левой стороны по направлению к Лужникам. Над проезжей частью нависают большие рекламные щиты: "Пользуйтесь услугами сотовой связи!" Внизу - толчея иномарок, нахально проскакивающих на красный свет. У перекрестка с Третьей Фрунзенской улицей хроническая пробка: здесь сворачивают торговцы, направляясь к вещевой ярмарке в Лужниках. Первый этаж дома перед перекрестком занят престижным обувным магазином: сквозь зеркальные стекла виднеются туфли, по штуке на каждой полочке, и зевающая охрана, а покупателей нет.
По ту сторону яблоневой аллеи, уходящей вдоль Третьей Фрунзенской улицы, синеет реклама "Мост-банка", который обанкротили еще в прошлом году. "Мост-банк" перед смертью успел отремонтировать фасад длиннейшего сталинского дома, растянувшегося в обе стороны от угла; он теперь какой-то клетчатый, но нижний этаж остался красно-бурым, как в моем детстве. Перед запертым входом в банк торчат реликтовые фонари - крестовиной в четыре подвески; здесь таких никогда не было, они гордо освещали Комсомольский проспект, и лампы у них были совсем другие, их теперь можно найти только в старой кинохронике. От угла в сторону набережной - часовая мастерская, ресторан "Хлестаков" и, наконец, отделанный мрамором подъезд Московского Муниципального банка. Не доходя до него - высокая подворотня, сквозь которую виден серый дворовый фасад. Это - дом семь, тот самый, где на третьем этаже находилась наша квартира.
Нет, все не так. Наши часы показывают уже следующее тысячелетие. Этак мы ничего не увидим. Память позволяет отлистать календарь назад, выбрать нужную дату и нажать Enter.
Мы идем по Комсомольскому проспекту с левой стороны по направлению к Лужникам. Над широкой, пустой проезжей частью гордо красуются фонари крестовиной в четыре подвески. Возле Третьей Фрунзенской улицы светофор не пускает проехать троллейбус, два "Москвича" и кругленький "Запорожец". Милиционер в сапогах озабоченно крутит головой, потому что много машин. Первый этаж дома перед перекрестком занят диетической столовой; по слухам, обед там стоит аж полтора рубля! Никто из местных туда и не заглядывает. По ту сторону яблоневой аллеи, уходящей вдоль Третьей Фрунзенской улицы, возвышается мощный кирпичный дом с красно-бурыми стенами нижнего этажа. От угла в сторону набережной - часовая мастерская, "Кулинария" с домовой кухней и, наконец, тщательно выкрашенная бурая дверь военкомата, которого так боится отец. Не доходя до него - высокая подворотня, в глубине виден серый дворовый фасад. Это - дом семь, где на третьем этаже находится наша квартира.
Двор большой, прямоугольный, полтораста метров в каждую сторону. Его обрамляют десятиэтажные дома, в середине - путаница клумб, скамеек и огороженная площадка детского сада. На первом плане сереет электробудка, железная дверь украшена черепом и костями. Возле нее торчит низкий фонарь с матовым белым плафоном, как в Парке культуры. Вечером, когда он светит, плафон такой изящный, а под ним ничего толком не видно. Это потому, что вечером надо ужинать, а не ходить в темноте.
Подъезд, четыре ступеньки с перилами, двойная тяжкая дверь - и мы в сквозном вестибюле, только на другую сторону все равно не выйдешь, там висит замок. Бабушка объяснила, что иначе будет не подъезд, а проходной двор. Справа решетка лифтовой шахты и лестница, выписывающая вокруг нее петли - марш, площадочка вдоль окна и еще марш. На стене сереют газетные ящики. На третьем этаже - маленький тупичок с двумя темными дверьми. Та, что сбоку, вообще неизвестно для чего нужна, а та, что прямо - это наша.
Если у кого есть ключ, дверь можно открыть, а то я все равно не дотягиваюсь. Там пустая квадратная прихожая с пронзительным фонарем на потолке. Он висит, словно зеленоватая капля, а по капле - узоры. К счастью, он обычно не горит. Справа вешалка с барахлом, налево закрытая наглухо дверь, из-за которой слышен раздраженный голосок соседки Анны Васильевны. Прямо как будто перегородочка с проемом, но без двери, и - длинный широкий коридор, правая сторона которого занята мрачными шкафами. Напротив них - двустворчатая полустеклянная дверь в комнату к дедушке. Стекло изнутри занавешено тканью. Дальше на полочке черный казенный телефон, табуретка и карандаш. Около него приделана лампочка.
Там, где кончается коридор, из угла направо - это мы живем, а прямо будет ванная. Там есть большая белая ванна в желтых разводах, где моются взрослые. Над ней тесно натянуты веревки, затхлый воздух и пытается сохнуть белье. Левее - уборная, куда ни один нормальный человек никогда не зайдет: ну какая же вонь! Как будто они все кладут мимо горшка. Там вдоль стен ползут, переплетаясь, таинственные трубы, и та, что потолще - газовая. А лампу можно и не включать: из кухни есть зеленоватое оконце под потолком.
Кухня большая, в голое - без занавесок - и давно немытое окно льется свет. Оно потому что ничейное. Возле окна - плита на четыре конфорки, которые все поделены. Слева белеет огромный китайский шкаф с бабушкиной посудой. Справа в ближнем углу - длинная мойка на два отделения с перегородкой посередине. Кран можно поворачивать туда и сюда. Сбоку над мойкой нависает тяжелый черный цилиндр газового счетчика. Он немножко щелкает, и видно, как в маленьком окошечке проезжает цифра. Между мойкой и дверью - две одинаковые стиральные машины: одна наша и одна бабушкина. При стирке они ревут и трясутся, и мама налегает на крышку рукой. Над входом в кухню прикрыты маленькие дверцы: там лежат вещи, которые не нужны.
* * *
Если обстановка квартиры в Казарменном переулке по большей части осталась для меня неизвестной (да я и не слишком стремился о ней узнать), то на Третьей Фрунзенской я сам прожил до пяти с половиной лет и - со всеми огрехами детской памяти - могу, так сказать, для истории воспроизвести интерьеры обеих комнат. Я уже как-то оговорился, что семилетнее пребывание в этой "полукоммунальной" квартире было для нашей семьи промежуточным, как и шестидесятые годы вообще. Ибо вся дальнейшая жизнь обоих семейств протекала на соседней улице, где сейчас и пишутся эти строки. (...) Хотя я и так уже забежал вперед, ибо порядок нашей жизни в шестидесятых годах есть тема следующего Раздела. Поэтому возвращаемся к нашей экскурсии, которую продолжим в комнате Ларионовых [деда и бабушки], если они, конечно, не против.
Ларионовы при переезде простились со многими старыми, вдребезги изношенными вещами. Из их числа сохранился буфет - странное сооружение высотой не меньше двух метров, компактное в плане и состоявшее из двух отдельных частей, которые ставились друг на друга. Нижняя половина представляла собою обыкновенный комод, внутри черный от старости, с усыпанной хлебными крошками средней полкой. Здесь у Валентины [бабушки] стояла обеденная посуда и запасные кастрюли.
Верхняя часть буфета опиралась на нижнюю по трем сторонам, оставляя как бы пещеру с зеркалом на задней стенке. Здесь всегда белела салфетка, стояла древняя ваза бемского стекла и еще более древнее зеркало в обрамлении серебряных веток и листьев. Его когда-то сделали на заказ из осколка разбившегося трюмо. Кроме того, имелась широкая жестяная чаша, именовавшаяся "полоскательницей"; я до сих пор не знаю ее назначения в старинном обиходе. Может быть, туда снимали нагар со свечей. Валентина кидала туда мелкий мусор. Здесь же стоял массивный стакан филигранной работы, прикрытый пластмассовой крышкой от консервной банки; Алексей [дед] пил оттуда воду. Кроме того, на салфетке красовались несколько витых раковин, привезенных из Сочи, и большой фарфоровый дог в серых яблоках.
Выше буфет обрастал точеными колонками и резными стеклышками на маленьких дверцах; внутри хранились чайные принадлежности и господствовала такая же грязь. Колонки можно было для забавы со скрипом вертеть в обе стороны. После смерти деда мы, не раздумывая, вынесли данный раритет на свалку, несмотря на ореховое дерево и антикварную ценность (откуда он и испарился минуты через две).
Другой пережиток прошлого, примерно равный по объему буфету, гордо именовался книжным шкафом; его Ларионовы купили сразу после женитьбы у какого-то нэпмана. Золотистого цвета, со скругленными углами и двумя наполовину застекленными дверцами, он производил уютное впечатление. На верхних полках действительно стояли книги, причем Валентина, практически не принимавшая гостей, заботилась о том, чтобы в первом ряду красовались собрания сочинений. На нижних полках теснились роман-газеты и жила коробка с нужными лекарствами, так что медицинский запах смешивался с букинистическим.
Сверху на шкафу стоял гигантский желтоватый гипсовый слон высотою до полуметра; его также подарили Ларионовым к свадьбе на счастье. Через много лет я со скуки привязал к слону бельевую веревку и попросил деда тянуть. Алексей, уже почти потерявший зрение, отнесся к просьбе настолько добросовестно, что я, спохватившись, уже ничего не успел предпринять, зато теперь знаю, как вандалы вели себя в Риме. Последовавший скандал относится уже совсем к другой эпохе.
На другой стене висел еще один раритет нэповского времени: странный - гипсовый же - раскрашенный барельеф порядочного размера. Там два оленя выходили из леса в зимние сумерки. Крайняя примитивность сюжета компенсировалась необычностью исполнения.
Еще у деда были стенные часы французской фирмы Габю, XIX-го века; он их купил по случаю на послереволюционной толкучке. Часы висели под потолком и мягко тикали, покачивая маятником, а раз в полчаса их мелодичный звон облетал всю квартиру. Алексей относился к ним очень бережно, никому не доверял заводить (даже когда ослеп) и время от времени чистил механизм, отмачивая его в керосине. После смерти Алексея эстафету подхватил отец, но часы его плохо слушались и порою, остановившись, неделями не желали работать, а потом вдруг опять шли. Как-то раз они встали аккурат под Новый год, а пошли на Пасху. Мне казалось, что их поведение диктуется какими-то скрытыми от глаз мистическими причинами. Они навсегда остановились в начале смертельной болезни отца, подведя итог ушедшей эпохе.
В числе новых вещей, привезенных из Казарменного переулка, были две крепких кровати, сделанных в совминовской мастерской. Сперва они стояли рядом друг с другом, потом их разделили желтой тумбочкой с коричневыми углами, в которой у Риты прежде хранилась посуда. При переезде Рита вернула тумбочку родителям, и Алексей набил ее хозяйственными принадлежностями - молотками, гвоздями, клеем, старыми подметками, - грязными и наваленными в беспорядке. Мне запомнилась связка мочалок, которая при каждом открытии дверцы вываливалась наружу. В тумбочке стоял крепкий запах столярной мастерской, но туда, по счастью, лазили редко.
Помимо кроватей, с прежней квартиры сюда переехал древний диван замоскворецкого образца - темно-кожаный, жесткий и неудобный, с двумя валиками по краям и высокой прямой спинкой, по верху которой шла узкая полочка для слоников, но там, к чести Валентины, лежала только пыль. Впрочем, их гигантский свадебный слон (см. выше) стоил целого стада. Диван был покрыт специально сшитым светлым парусиновым чехлом (Алексей, уроженец приморского Петергофа, вообще любил парусину), на спинке красовались вышитые вручную цветы.
Огромный гардероб, точная копия Ритиного приобретения, насквозь пропах нафталином. В мелких ящиках боковой секции хранилось белье и галантерейная мелочь, а также фотоальбомы послевоенных поездок на юг. Был здесь и дореволюционный альбом, весь ободранный снаружи; в нем жили давно почившие господа с усами, дамы в кокетливых шляпках с вуалями и помпезные съемки на фоне бутафорских пальм и колоннад.
Не желавший работать телевизор "Темп-2" обосновался на кубическом бежевом комоде, в котором также стояла посуда.
Обедали Ларионовы за круглым столом, который при необходимости можно было раздвинуть. Скатерть покрывалась только по праздникам, в будние дни кушали на клеенке. У Валентины был большой железный поднос, на котором стоял вскипевший чайник и еще какая-нибудь сковородка. Она приносила кастрюли и сковородки в комнату и накладывала в тарелки уже здесь. Стулья - тяжелые, с квадратными спинками - всегда были под светлыми чехлами.
В углу над дверью висела икона Спаса - довольно маленькая, но большой застекленный киот зрительно ее увеличивал. Икона всегда была под серебряным окладом, а снизу в киоте виднелись еще два совсем малюсеньких образка. Ниже иконы Алексей разместил темно-коричневую аптечку с резной дверцей; там стояли бутылочки с йодом и перекисью водорода. Валентина часто обрезала пальцы и тогда хваталась за перекись.
С потолка свисала характерная для послевоенных годов люстра, которую я помню плохо. Она казалась массивной тарелкой, подвешенной на нескольких цепях. Сквозь матовую середину тарелки просвечивала лампа, создавая желтоватый фон, а другие лампы прятались в пяти или шести колокольчиках, изогнутых по краям тарелки.
Окно и дверь были украшены тяжелыми складчатыми портьерами темно-зеленого цвета, которые быстро выцвели.
Николай Васильев. "В комнате", 1950-е
На картине великолепно представлен типичный интерьер московской интеллигентской квартиры моего раннего детства. Высокие потолки старого дома, темный колер окраски стен, разбросанные по ним картинки, портьера на высокой двери (чтобы соседи не заглядывали), полосатая ковровая дорожка на проходе (и вообще обилие половиков, большей частью красного цвета), могучий буфет орехового дерева с посудой, из-за которого выглядывает первый советский холодильник "Газоаппарат", в точности как у нас.
 В сборке комната выглядела так. Вход был из левого угла. Над дверью висела икона, за дверью пряталась аптечка. Прямо перед носом возвышался шкаф со слоном; на его боку была привинчена полочка с дедовым полотенцем. За ним в прогале свободно расположился стол со стульями, над столом висели часы. Дальше до самого окна, словно крепость, высился гардероб. За его торцом отдыхала гладильная доска. Тут была балконная дверь. Дальше спиной к окну стоял комод с телевизором и затемнял комнату. В углу радовал своим изяществом буфет; между ним и комодом всегда мешалась табуретка, на которую залезали, чтобы открыть форточку. Дальше по стене громоздился диван. За ним, вправо от входной двери, стояли торцами обе кровати с разделявшей их тумбочкой, над которой темнел барельеф с оленями. Дед спал возле стены, ее скрывал большой (до потолка) сине-зеленый ковер с успокаивающими геометрическими узорами.
В сборке комната выглядела так. Вход был из левого угла. Над дверью висела икона, за дверью пряталась аптечка. Прямо перед носом возвышался шкаф со слоном; на его боку была привинчена полочка с дедовым полотенцем. За ним в прогале свободно расположился стол со стульями, над столом висели часы. Дальше до самого окна, словно крепость, высился гардероб. За его торцом отдыхала гладильная доска. Тут была балконная дверь. Дальше спиной к окну стоял комод с телевизором и затемнял комнату. В углу радовал своим изяществом буфет; между ним и комодом всегда мешалась табуретка, на которую залезали, чтобы открыть форточку. Дальше по стене громоздился диван. За ним, вправо от входной двери, стояли торцами обе кровати с разделявшей их тумбочкой, над которой темнел барельеф с оленями. Дед спал возле стены, ее скрывал большой (до потолка) сине-зеленый ковер с успокаивающими геометрическими узорами.
Стены были окрашены светлой серовато-зеленой краской с темной каймой по верху. На полу лежала длинная вишневая дорожка. Общее впечатление от комнаты оставалось мрачноватое; солнце заходило сюда только к вечеру.
Балкон был довольно широкий, на нем в дальнем углу стоял комод топорной работы с нестругаными дверцами и одной полкой. Железные перила были сквозными, напросвет. В торцах мастер нарастил к ним Г-образные рогульки, на них хлопали по ветру лоскутья парусины, защищая Ларионовых от любопытства соседей. Между рогульками были натянуты веревки для белья. Вообще балконом пользовались мало, и я туда почти не выходил.
* * *
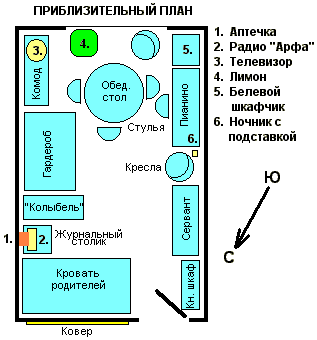 Комната Глебовых была такой же длины, что и комната Ларионовых (около шести метров), но более узкая. Вход находился в углу, но с глухой одностворчатой дверью. Над ней имелась сквозная антресоль, которая другим концом выходила в кухню. Окно в комнате было в две створки, причем открывалось не целиком, ибо верхняя треть переплета была глухой и труднодосягаемой для мытья. Высота потолков (как и в других помещениях) составляла три метра, что существенно выше, чем в рядовых хрущобах. Стены были окрашены светло-бежевой масляной краской с вишневой каймой по верху. На полу лежал хороший паркет, который регулярно натирали мастикой. Половиков не было. Комната выглядела гораздо опрятнее и светлее, чем у Ларионовых; по крайней мере, здесь под столом не валялись крошки.
Комната Глебовых была такой же длины, что и комната Ларионовых (около шести метров), но более узкая. Вход находился в углу, но с глухой одностворчатой дверью. Над ней имелась сквозная антресоль, которая другим концом выходила в кухню. Окно в комнате было в две створки, причем открывалось не целиком, ибо верхняя треть переплета была глухой и труднодосягаемой для мытья. Высота потолков (как и в других помещениях) составляла три метра, что существенно выше, чем в рядовых хрущобах. Стены были окрашены светло-бежевой масляной краской с вишневой каймой по верху. На полу лежал хороший паркет, который регулярно натирали мастикой. Половиков не было. Комната выглядела гораздо опрятнее и светлее, чем у Ларионовых; по крайней мере, здесь под столом не валялись крошки.
Планировка мебели изменялась бесчисленное множество раз, ибо Рита, любившая перестановки, время от времени заставляла мужа возить шкафы из угла в угол. Для этого был специально вычерчен план комнаты в масштабе, и в том же масштабе вырезаны контуры мебели. Рита сперва играла с картинками, прикидывая, куда что влезет, и потом в дело вступал Иван. Все же мое рождение несколько охладило пыл, и в последние годы перед отъездом (которые я помню) вещи занимали свои места более или менее устойчиво.
Вытянутый план комнаты обусловил принципиальную расстановку мебели в два ряда вдоль стен. Просторный центр всегда оставался пустым, здесь я разбрасывал свои игрушки. С потолка свисала люстра с шестью матовыми белыми плафонами на коротких ножках, расходившихся из центра горизонтально. Лампочки смотрели вверх. Дверь была украшена веселыми цветными портьерами, на окне висели такие же шторы и тюль.
Сразу влево от двери вдоль стены стояла уже знакомая нам болгарская кровать, родители спали на ней ногами к двери. На стене тут висел небольшой китайский коврик из чистой шерсти; по темно-желтому полю извивались стилизованные вишневые цветы. Его очень любила моль и со временем прогрызла свои орнаменты. Кровать всегда была накрыта светлым покрывалом.
Кровать головой упиралась в продольную стену. Здесь в изголовье разместился уже знакомый нам столик с потугами на барокко. На нем стояла радиола "Арфа", ловившая разные станции. Иван приделал к ней длинную проволочную антенну, но большого проку не вышло. Чаще всего мы слушали "Маяк" с его музыкой и короткими сводками новостей. Сверху в радиолу можно было вставлять небольшие грампластинки. Оставшееся перед ней место на столике, накрытое салфеткой, использовалось для всякой мелочи. На полке под столиком лежали журналы, а еще ниже, на полу, был вдвинут большой фанерный ящик с моими игрушками. Сверху, над радиолой, висела бежевая резная аптечка.
Дальше торцом к стене приткнулась моя кроватка; по ночам отец выдвигал ее из углубления и подтягивал ближе к себе. В четыре года я перебрался на другую кровать, о которой также упоминалось.
За кроваткой возвышался гардероб со всем великолепием маминых платьев и несколькими костюмами отца. После него начинался передний угол с телевизором, который стоял то ли на комоде с ячейками для белья, то ли на втором "барочном" столике.
Перед самым окном комнату заслонял от солнца большой дикий лимон в три ствола, отец приволок его с работы. Лимон считался как бы талисманом нашей семьи. Он никогда не цвел, имел темную до черноты листву и сильно кололся. Кадку для него родители привезли аж из Кинешмы. Время от времени мать обрезала бурно растущие сочные побеги. Зимой, перед холодами, он в изобилии сбрасывал листья.
Посередине комнаты, ближе к окну, стоял большой круглый обеденный стол болгарского производства. На праздники его можно было раздвинуть. Кушали мы всегда на скатерти, а клеенкой брезговали. Вокруг стояло несколько легких немецких стульев с пружинными сиденьями; со временем на сиденья сшили маленькие чехлы. Мое место было напротив окна, слева (ближе к телевизору) боком сидел отец, а справа - мать.
Правая сторона комнаты испытывала постоянные рокировки. Начиная от двери здесь стояли: высокий книжный шкаф из четырех застекленных полок и двух глухих, где находилась крупа; маленький бельевой шкафчик Риты, который со временем был целиком отдан моим вещам; округлое кресло с ядовито-красной обивкой (другое такое же стояло возле окна); тоненькая подставка с ночником в виде коричневого гриба; и черное концертное пианино, свидетель Ритиных давних успехов. В Казарменном переулке у Риты было настолько тесно, что оно стояло в комнате Алексея, но теперь площадь позволила забрать его к себе. Я забыл еще невысокий желтоватый чешский сервант с двумя глухими полками и двумя застекленными; здесь хранилась вся столовая посуда.
Верх пианино был завален старыми газетами, там же стоял худо работавший катушечный магнитофон "Астра-2", с которым отец упорно возился по выходным. Кроме того, на всех горизонтальных плоскостях поблескивали хрустальные вазы, вазочки, вазончики и статуэтки, а также были разложены гребенки, заколки, булавки и прочие мелочи обихода.
На комоде у телевизора всегда красовалась огромная пятилитровая банка с китайским чайным грибом. Его подарила Лида, подруга матери. Мать заливала банку чайным отваром, сверху там плавал аморфный блин тошнотворного вида, который выпускал кислоту, подобную лимонной. Подкисленный напиток отливали и пили, но я его, во избежание рвоты, никогда даже не пробовал. Через неделю-другую настой превращался в форменный уксус, его сливали, банку и сам гриб ополаскивали, и все начиналось сначала. Я затрудняюсь сказать, какую часть отвара выпивали, а какая пропадала. Время от времени гриб расслаивался на несколько отдельных блинов; тогда один оставляли, а прочие выкидывали. На следующей квартире этой экзотики уже не было.