 Лето 1971 года
Лето 1971 года
Автор: Михаил Глебов, январь 2003
Когда человек подвергается искушениям, Господь время от времени
дарует ему состояние мира и, таким образом, освежает его. (AC 1726)
[...] Bосемь дачных сезонов школьного времени резко отличались от всех предыдущих и последующих двумя факторами: (1) ни до, ни после того на даче не было общения со сверстниками; (2) ни до, ни после того я не испытывал столь сильного эмоционального антагонизма между летними и московскими реалиями. Дача в моем представлении была землей обетованной, и отъезд туда приравнивался к освобождению из тюрьмы. Это вовсе не значит, что жизнь в саду была так хороша; это лишь показывает, в какой степени непереносимыми казались мне школьные будни и домашняя скука. Легко заметить, что "золотое дачное время" (1970-77) практически полностью совпадает со школьным периодом (1968-78); так сложилось потому, что именно школа провиденциально служила для меня орудием жестокого духовного пустошения, которое я был в состоянии вынести лишь при наличии некоего эмоционального противовеса. Когда же самый пик духовной ломки был пройден, вместе с ним "отвалился" и противовес, до конца выполнивший свою роль.
Каждый из указанных летних сезонов был по-своему ярок, тем более, что в эти годы я быстро рос и по весне приезжал на дачу уже несколько другим человеком. Поэтому все они будут ниже рассмотрены по отдельности. В этой короне из восьми драгоценных камней три можно считать настоящими бриллиантами - 1971, 1975 и 1977 годы. Прочие, не столь богатые событиями, составляют их фон.
Относительно погоды, лето 1971 года запомнилось мне жарким до засушливости, с редкими ливневыми дождями. Комариные полчища поэтому не досаждали. Осень также была долгой и теплой - до такой степени, что в сентябре Ларионовы даже не захотели возвращаться в Москву. Некоторые события этого памятного лета были рассмотрены выше: покупка велосипеда "Школьник", падение с велосипеда, поездки с родителями в Бородино и Архангельское. Прочие события будут изложены по порядку ниже.
* * *
Нервное напряжение, которое не оставляло меня с первого дня школы и, по мере роста враждебности одноклассников, только усиливалось, довольно быстро привело к сбоям в организме, которому в подростковый период и без того бывает трудно. В первую очередь, обострился хронический насморк, который тлел еще с дошкольного времени, проявляясь главным образом в ночной заложенности носа. Теперь же открыто потекли сопли, и к моему громкому хрюканью в классе быстро привыкли. Но следующего удара не ожидал никто.
В июне 1971 года мы перебрались на дачу немного позже обычного, и я заждался. Был восхитительный солнечный день; утро, как водится, прошло в сборах; наконец все погрузились в машину и прибыли на участок незадолго до ужина. Здесь меня радостно встретила Света, и мы, соскучившись за зиму, словно сорвались с цепи: бегали, кувыркались на нашей лужайке и еще ползали на четвереньках, изображая собак. Трава, естественно, еще не была выкошена и вся искрилась желтыми солнышками одуванчиков. Их сладкий аромат плыл в воздухе, и вся одежда наша была засыпана желтой пыльцой. Вскоре я начал жестоко чихать и сморкаться, но поскольку это занятие давно вошло в привычку, я не обратил внимания. Затем зачесались глаза; я наскоро тер их кулаками и ползал дальше. Через некоторое время чесать сделалось больно; глаза жгло, там ощущалась болезненная сухость. И трудно сказать, куда бы зашла ситуация, если бы меня не позвали ужинать.
Я уже почти ничего не видел и ныне могу только догадываться о катастрофическом состоянии моих глаз. Вероятно, они были кроваво-красные; честное слово, я не хотел бы увидеть что-либо подобное у кого-то еще. На террасе к ужину собрались отец, мать, Валентина и Алексей, и за все время еды ни один из них не заметил, что со мной творится! Добавьте к этому, что я наверняка по-прежнему тянул руки к глазам; возможно, мне делали нравоучительные замечания, а беды никакой не видели. Степень сосредоточенности всех четверых на собственных персонах - и, соответственно, степень пренебрежения ко всему остальному - кажется невероятной. После ужина я чувствовал себя уже настолько плохо, что едва дотащился до кровати; родители, впрочем, тоже устали и раньше обычного легли спать.
Пробуждение мое было страшным. Я, несомненно, проснулся, я слышал голоса уже вставших родителей, ворочался в кровати, а глаза открыть не мог. Словно клей стянул мои веки, не позволяя их раздвинуть. Дико перепугавшись, я сунулся руками, ответом была резкая боль. Мне почудилось, что я ослеп и теперь никогда не увижу солнца. "Папа, мама!" - взвыл я в отчаянии. - "Что тебе? Вставай!" - "Вот… посмотри… больно…" - "Господи, у него все лицо в гное! Вот дурак! Ты, наверно, вчера глаза тер, да? Ну вот и дочесался!" - и так далее со всеми возможными вариациями. Это была характернейшая привычка родителей - вместо реальной помощи начинать скулеж на тему "сам виноват". Психологический смысл тут ясен: (а) на всякий случай сходу занять позицию обвиняющей стороны - "ты сам виноват, а не мы", (б) по возможности не обременять себя конкретными действиями, и (в) самоутвердиться демонстрацией собственной мудрости - "мы тебе давно-о говорили".
Все-таки мне удалось кое-как приоткрыть распухшие веки; сквозь мокрую муть я различал только режущий свет и силуэты родителей. Оба глаза были, как открытые раны. Здесь родителей наконец охватила паника. "В Москву его, к Гельмгольцу, срочно!" К счастью, в аптечке нашелся мой давний знакомый - альбуцид. Капли оказали целебное действие, я уже кое-как озирался по сторонам, отскребая ногтями гнойные струпья. "Не лезь же руками!" - нервно визжала мать. Возвращаться со мною в Москву на другой день по приезде родителям, со всей очевидностью, не хотелось. До вечера я смирно пролежал в кровати, кушая антибиотики, и назавтра практически был здоров. Краткое расследование выявило вину одуванчиков, которые прежде совсем на меня не действовали. Отец ринулся обкашивать сад, меня угощали таблетками тавегила (против аллергии), и на том чрезвычайно опасный инцидент был исчерпан.
Но сама предрасположенность к "одуванчиковой" аллергии осталась и дает о себе знать до сих пор. Конечно, я стараюсь "не лезть на рожон", да и одуванчиков в городе не так уж много. Гораздо хуже приходится тем, кто страдает от тополиного пуха. А мой институтский товарищ Сережа по утрам, если дело было летом в деревне, начинал страшно чихать и чесаться. Зная, что на рассвете обыкновенно пылят злаки, я отвел его в поле и давал нюхать разные колосья, пока бурный фонтан соплей не украсил образец ежи сборной - очень симпатичной и даже полезной травки. Так Сережа впервые узнал своего мучителя в лицо.
* * *
Поскольку на нашей территории Светкина прожорливость касательно ягод выводила из себя Валентину, а весь участок Черниковых был засажен сплошь, кроме только дорожек и передней лужайки, по Линии же временами носились машины, Татьяна Федоровна стала открывать для нас заднюю калитку, выводящую в поле, и там (при условии не убегать далеко) мы резвились по нескольку часов до ближайшей еды.
С этого края поселок был огорожен высоким деревянным забором с колючей проволокой поверху, в котором владельцы прилежащих участков не поленились устроить калитки. Дощечки неплотно прилегали друг к другу, между ними топорщились малинно-крапивные заросли. Прямо перед забором тянулся довольно глубокий, темный, но всегда сухой ров; иногда на его скатах появлялись свинушки, но в целом из-за крапивы он для игр не использовался. Через него от всех калиток были перекинуты шаткие мостики, только добросовестный Валерий сотворил нечто незыблемое метровой ширины. За рвом был небольшой бруствер, вдоль которого всякий по своему вкусу насадил тополей или берез. Там, где в них оказывались пробелы, на сухом и солнечном пригорке краснела мелкая лесная земляника. Дальше тянулась заросшая травой полоса, метра три в ширину, с тропинкой, позволявшей дойти вверх до самой Централки. Некоторые хозяева аккуратно выкашивали ее, другие оставляли так. Возле каждого мостика, под сенью берез, имелась уютная площадка со скамеечкой и кострищем.
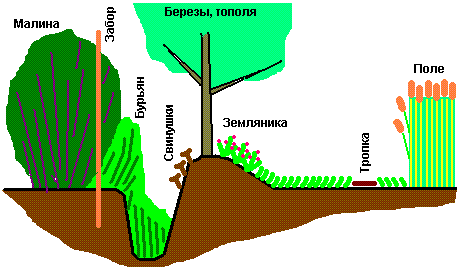
Дальше начиналось колхозное поле - длиной побольше садовых участков и шириной с полкилометра, т.е. до самой Можайки, которая пряталась за лесополосой. В центре этого обширного пространства маячили два зеленых пятна: заросшее ракитами мокрое болотце, откуда вытекал "наш" ручей к слиянию с дренажной канавой, и березовая рощица на месте разрушенного блиндажа. Те, кто брал на себя труд дотащиться к этой последней через посевы, вознаграждались кучей хороших грибов. Не знаю, почему колхозники оставили этот клочок нераспаханным. Болото же разравнивать было нельзя: там били ключи и даже в засуху буйно зеленела осока. Некоторое время в правлении товарищества велись дебаты о том, чтобы устроить там пруд для купания, но поскольку было ясно, что в результате получится зона отдыха для всех окрестных деревень, с активным участием местного хулиганья, прожект большинством голосов отвергли.
В сухое время болото отступало к своему центру, и изголовье ручья наполнялось водой только после дождей. Эта скромная канавка, почти забитая ветвями мелких кустов, метров через двести встречалась с Большой дренажной канавой, всегда полноводной, и здесь-то, собственно, и начинался "наш" ручей, уходивший к западу.
Ирина Котельникова. "Полевая тропинка", 2004
В точности, словно идешь с полустанка к нашему поселку. Нахоженная тропа крутит по краю бугра над ручьем, откуда поднимаются ракиты и березы, а на заднем плане темнеет невысокий молодой сосняк.

Поскольку все здешние земли считались "бросовыми", поле обыкновенно засевали кормовыми культурами для скота - смесью тимофеевки и клевера, иногда с участием гороха, который пользовался у ребят бешеной популярностью. В некоторые годы здесь колосился овес, а бывало, что и пшеница. К середине лета травяной массив поднимался по грудь, по нему от дуновения ветра из конца в конец пробегали морские волны. Потом, к августу, жители поселка несколько дней терпели скрежет уборочных комбайнов, следом являлись ревущие трактора, поле становилось вспаханным, глинистым, рыже-черным, и свежая зелень посевов уходила под снег.
В 1971 году на поле как раз посеяли пшеницу, и она уже поднялась до образования колосьев. Бродя по ничейной полосе вдоль поля, мы со Светой как-то придумали устроить в пшенице большой и таинственный лабиринт. Из соображений секретности мы отошли метров на десять в сторону от мостика Черниковых, встали гуськом и, старательно работая ногами, повели узкую извилистую тропинку вглубь клонившейся от ветра зеленой массы. Там, в глубине, начались разветвления "улиц", которыми соединялись просторные лежбища - "площади". Я приволок тетрадь, начертил карту лабиринта, мы со Светой давали названия улицам и площадям, и если где чего не хватало, срочно протаптывали новые. Помню, что самая большая (излишне большая) площадь называлась Красной, а соседняя - круглая и очень уютная, - почему-то Испанской. Мы ходили по лабиринту из конца в конец и лежали по очереди на всех площадях. Был даже специальный тупичок для справления малой нужды.
Однажды, в особенно жаркий день, я прибежал на поле в одних трусах, и моя кожа, вовсе не привычная к лежанию в траве, сплошь покрылась красными пятнами аллергии. Я стал чесаться, Светка, сама не испытывавшая никаких проблем, испугалась и, во избежание недоразумений, посоветовала мне просочиться домой, не попадаясь никому на глаза, и там одеться. Главное, не следовало никому говорить, что я лежал в траве, ибо это могло выдать тайну лабиринта. Кроме того, мне отчего-то сделалось стыдно, словно аллергия заключала в себе нечто позорное. Дождавшись, пока Татьяна Федоровна уберется на кухню, я вихрем пронесся через Светкин участок, но возле своей террасы наткнулся на маму. "Что с тобой?" - удивилась она. Я растерялся и брякнул первое, что пришло в голову: будто я случайно упал в муравейник. Мать вполне удовлетворилась таким ответом и пошла дальше. Здесь, как и в ситуации с моими глазами, поражает ее безразличие, которое по всей справедливости можно назвать преступным. В самом деле, у ребенка сплошное раздражение кожи, он явно врет, с ним, по-видимому, случилось что-то нехорошее, - я не говорю, что следует бить тревогу и поднимать панику, но элементарно разобраться-то надо!
Через некоторое время о нашей тайне узнал Валерий и сделал озабоченное лицо: "Смотрите, поймают вас колхозники и вздуют почем зря!" Не знаю, повлиял ли его запрет или нам просто наскучило ползать в траве, но через несколько дней лабиринт заглох, и мы туда больше не возвращались.
Ежедневно катаясь со Светой на велосипедах по Линиям и по Централке, мы как-то раз познакомились с мальчиком Алешей. Он жил на одном из вельможных верхних участков, по возрасту был ровесником Светы, т.е. на год младше меня, а выглядел даже старше - возможно, из-за своей коренастой фигуры. Несколько дней мы катались вместе, потом я пригласил его в мансарду, где мы со Светой увлеченно резались в бильярд.
Алеша был молчаливым, скрытным, смотрел вокруг исподлобья, - и тут, несмотря на его безукоризненно вежливое поведение, мы со Светой ясно почувствовали, что он - чужой и никогда не сможет стать для нас другом. Казалось, будто он внутренне противится всему, что мы предлагаем и делаем. От него разливалась какая-то неприятная эгоистичная аура, гасившая наше простое веселье. Алеша, со своей стороны, видимо, тоже почувствовал дискомфорт. Поэтому через несколько дней мы мирно расстались и впоследствии даже избегали друг друга, а если когда и сталкивались на Централке, то редко здоровались. Это, можно сказать, была духовная несовместимость в чистом виде, не осложненная никакими житейскими противоречиями, которые обычно ее маскируют.