 Отчуждение от Ларионовых
Отчуждение от Ларионовых
Автор: Михаил Глебов, февраль 2003
Тем не менее, я вынужден был найти для себя чисто практический ответ на вопрос: как быть? Собственными силами разделаться со своими обидчиками я не мог. Создавать коалиции одних ребят против других я совершенно не умел; кроме того, подобные интриги слишком противоречили моему рыцарскому настрою. Жаловаться я вообще брезговал.
Сверх того, я просто не видел, на кого именно жаловаться: ведь классные озорники в своих "подвигах" с очевидностью опирались на молчаливое одобрение большинства. Я чувствовал, что мое нападение на одного из них, случайно выбранного, перебаламутит весь коллектив и сделает только хуже. Далее, было непонятно, кому жаловаться: учителям, ясное дело, мои страдания были безразличны, родители же не имели в школе никакой власти. И, что уж вообще не лезло ни в какие рамки, я затруднялся объяснить, на что, собственно, жалуюсь, ибо грехи каждого отдельного обидчика были ничтожны: один меня щелкнул, другой язык показал, третий незаметно переложил портфель в другой угол класса. И каждый из них производил свои пакости сравнительно редко; но поскольку они действовали всей массой, эти копеечные уколы каждого суммировались для меня в практически нестерпимую пытку. - Так что же, не изволите ли, по вашей прихоти, разогнать весь класс?
Но, кроме фактора "не могу", меня резко сдерживал и фактор "не хочу". Ибо я вовсе не вставал в позу навеки обиженного графа Монте-Кристо, который желает посвятить остаток своих дней мщению. Напротив, я все-таки рассчитывал преодолеть разделявшую нас пропасть, чему всякая моя жалоба, даже малейшая, послужила бы величайшим препятствием (дети хуже всего не любят ябед). С другой стороны, я понимал, что усиление ребячьих наскоков, в принципе, может выйти из-под контроля, когда я уже волей-неволей буду принужден искать защиты у взрослых. Изо всей этой перепутаницы мыслей незаметно выкристаллизовалась простая и очень правильная модель поведения. Я решил в меру, т.е. для поддержания остатков своей "чести", огрызаться (кто-то остроумно заметил: "Вот Глебов опять погрозил своим тощим кулаком"), но по большому счету терпеть и не жаловаться до тех пор, пока можно будет не жаловаться. Но Господь умерял давление на меня таким образом, что эта горькая необходимость так никогда и не наступила, ибо, как я уже объяснял, такой перегиб не мог принести для моего духа ничего, кроме вреда.
Тем не менее, вопрос о причинах школьной конфронтации остался неразрешенным, и поскольку я живейшим образом был заинтересован в его прояснении, то, разумеется, обратился к взрослым, находившимся под рукой, т.е. дома. Других взрослых, годных для доверительной беседы, я не знал, а если и знал, то стеснялся признаваться перед ними в своем удручающем бессилии. Знакомых сверстников у меня также не было, кроме Светы, но беседы с ней на подобные темы, конечно, были невозможны - в том числе и по причине ее удручающе посредственного ума. Перед домашними, впрочем, мне тоже было неудобно; но, как говорится, "голод - не тетка", и я стал исподволь подкатываться то к одному, то к другому с более или менее окольными вопросами.
Дед всегда лежал на кровати и оттого был широко доступен, несмотря на присутствие Валентины. Тогда я очень радовался смягчению "визового режима", сегодня же начинаю понимать, что он вытекал из чисто адского страха Ларионовых перед дефективным ребенком, который ростом уже практически сравнялся с ними. Дед, по всей видимости, не думал ни о чем, кроме счастливого Петергофа своей юности; но Валентина всегда смотрела вперед и, будучи сама злобным и мстительным человеком, естественным образом приписывала эти качества всем окружающим. Она вполне могла полагать, что я накопил обиду за все ее прежние демарши и теперь, будучи дефективным и, сверх того, слушая науськивания родителей, возьму да и пришибу ее топором, как Раскольников свою старуху (Валентина вообще много читала Достоевского, хотя и бранила его на все корки). Отсюда вытекало вполне логичное решение вновь допустить меня до деда, чтобы я лучше нес свою ерунду, - чего все эти годы, я собственно, и домогался.
К слову сказать, мы часто даже не представляем, какие мерзкие фантастические причины побуждают злых людей оказывать нам услуги или хотя бы просто терпеть нас рядом с собой. Так, например, я по косвенным данным с великим изумлением выяснил, что Рита, в старости окончательно выжившая из ума, полагала, что я могу зарезать ее ради ее копеечной пенсии, а деньги разделить и пропить с какой-то мифической бабой. Или одна моя сотрудница вела себя послушно только потому, что приписывала мне владение черной магией: однажды я случайно угадал какую-то ее мысль, остальную картину дорисовал испуг. Эти и подобные им воображения зла, диктуемые адским наитием, самыми причудливыми путями направляют поведение злых людей, которое вследствие этого попросту невозможно рассчитать вперед. - Здесь можно было бы написать целую монографию, но мы не станем отвлекаться и пойдем дальше.
Дед лежал на кровати, уставившись в потолок и плохо реагируя на окружающий мир. Я садился рядом и, в перерывах своей чепухи, задавал ему вопрос, отчего ко мне пристает мальчик N? Дед, не желавший вникать в постороннюю для него проблему, пожимал плечами и оптимистически говорил, что это все ничего, это так иногда со всеми бывает, это обойдется, и "ты, Мишуха, не расстраивайся". Не удовлетворенный таким ответом, я наседал и выслушивал, словно от попугая, следующую подобную реплику, и так до тех пор, пока дед ни начинал сердиться. Тут он нередко закрывал глаза и принимался сопеть, делая вид, что страшно утомлен. Впрочем, я и сам оставлял его в покое, ибо видел, что толку от него не добьешься.
В том возрасте я еще не понимал, что он просто не хочет себя утруждать чужими проблемами, а думал, что Алексей на старости лет вовсе разучился соображать. С этим очень вязалось его пассивное лежание на кровати с игнорированием всех домашних хлопот. По существу, я никогда не видел Алексея в действии, и оттого у меня сложилось о нем вполне естественное впечатление как о человеке неполноценном - то ли идиоте от рождения, то ли инвалиде, которого трагически зашиб дачный шкаф. Так или иначе, но, к большому ущербу для деда, я прочно записал его в дураки, и - разумеется, в его отсутствие - стал регулярно повторять присказку "дед-дурак", явно ласкавшую слух моих родителей. Дед, таким образом, был исключен из числа "нормальных людей" и принял от меня терновый венец дефективности. Теперь я по-прежнему ходил к нему молоть ерунду, бесстыдно сливая ее излишки, словно в унитаз, но уже не ждал ответных реплик, тем более - разумных и по существу дела. Потеряв всякое уважение с моей стороны, дед сделался объектом моего презрения и насмешек, о чем мы поговорим ниже. Одним словом, его махровый эгоизм сыграл с ним злую шутку: вместо того, чтобы найти во мне опору (которую я уже заранее был готов предложить), он получил в моем лице чужого и, в целом, неприязненного человека.
Вопросы, обращенные к Валентине, воспринимались ею совсем иначе. Сперва она, конечно, не хотела меня слушать, потому что я всегда нес одну ерунду. Если же я настаивал и плакался ей на то или иное школьное утеснение (отчасти я еще не умел суммировать воедино разные факты, отчасти же стеснялся обобщать), Валентина краснела и агрессивно вздергивала нос. Ее внук, хотя и дефективный, входил в перечень ее имущества, покушения на которое, наряду с подделкой казначейских билетов, обязаны были неукоснительно преследоваться по закону.
- Какое безобразие! - желчно восклицала она. - Куда только учителя смотрят! Да, это тебе не в гимназии, там бы твои балбесы постояли на коленях в ящике с горохом… Распустили, теперь поди вразуми… Как фамилия твоего этого?..
Я видел, что бабушка готова ринуться в школу и в слепой ярости вывернуть ее наизнанку, мало задумываясь о том, что из этого выйдет в конечном итоге. И я, десятилетний мальчик, чувствовал себя более мудрым, чем эта старая опытная женщина, и пугался, и начинал мямлить, объясняя, что тот балбес, в сущности, виноват лишь немножко, зато, наряду с ним, понемножку виноваты еще несколько разных балбесов. Валентина, пристально взглянув на меня, вновь надевала очки и брала в руки книгу.
- Ну, знаешь… Если к тебе пристают все - значит, ты сам и виноват. Значит, ты себя ведешь таким образом, что ребята сердятся и дают сдачи. И не морочь мне голову, иди отсюда.
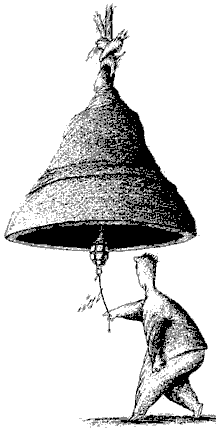 Я понимал, что если меня действительно припечет, то за помощью разумнее всего будет обратиться именно к бабушке. Но я также видел, что она смотрит на вещи в такой степени прямолинейно и примитивно, что запросто может оказать медвежью услугу.
Я понимал, что если меня действительно припечет, то за помощью разумнее всего будет обратиться именно к бабушке. Но я также видел, что она смотрит на вещи в такой степени прямолинейно и примитивно, что запросто может оказать медвежью услугу.
По совести говоря, мое использование Валентины на даче против Щальевых привело к успеху и обошлось без неприятностей лишь в силу счастливого стечения обстоятельств. Во-первых, сестры Щальевы имели среди соседей настолько худую репутацию, что бабка начинала их драть, еще не разобравшись в существе дела. Во-вторых, только недавно выдержав экзекуцию в правлении по поводу своего двухэтажного дома - экзекуцию, в результате которой погиб от инфаркта ее муж, - она больше всего боялась, что дикие выходки ее внучек приведут к очередному масштабному разбирательству. В-третьих, моя жалоба в глазах прочих ребят стушевалась тем обстоятельством, что Щальевы и с ними выкинули нечто непотребное, а против врага, как известно, все средства хороши. В-четвертых, я благоразумно воздержался от кляузы на вторжение Солдатовых - кляузы, которую они, по всей видимости, ждали и были приятно удивлены ее отсутствием. - Если бы всех этих обстоятельств не было налицо, действия Валентины запросто могли принести ощутимый вред: бабка Щальева встала бы грудью на защиту своих птенцов, а в глазах всей компании я навеки остался бы ябедой.
Еще не читавши Макиавелли и даже не зная его имени, я совершенно правильно рассуждал, что удар по врагу имеет смысл лишь в том случае, когда есть весомая надежда раздавить его или хотя бы надолго вывести из строя; причинять же ему мелкие хлопоты - значит лишь понапрасну злить. Здесь получается, как с бумерангом: либо ты убиваешь противника, либо он возвращается и тебе самому дает по башке. Валентина, с точки зрения тактики, действовала в стиле сокрушения; если же ее удар заведомо не мог привести к сокрушительной победе, то получалось, как если бы кто подошел к осиному гнезду, со всего плеча треснул его кулаком и дальше остановился подождать результатов. - Любые удары такого типа по школьному коллективу заведомо не могли привести к решению проблемы, но все осы точно бы взбесились.
Бабушку в дуры я, правда, не записал, но быстро убедился, что серьезные проблемы с ней обсуждать бессмысленно. Сверх того, она умудрялась многие очевидные вещи понимать навыворот и бить кулаком именно там, где требовалась вдумчивая рассудительность. Обученная в университете интегралам, она шла по жизни с одной арифметикой, притом ограничиваясь самыми ее азами - преимущественно утверждением, что 2 х 2 = 4. Чтобы дождаться ее помощи, требовалось приволочь обидчика за ухо и положить его на наковальню, чтобы она его хлопнула молотком сверху. Ей трудно было понять, что человек может быть виноват лишь частично, что виноваты могут быть оба противника сразу, каждый по-своему, и потому нельзя злоупотреблять антитезой "расстрелять - не расстрелять", подходящей разве для трибунала.
Однажды в журнале "Крокодил" была карикатура: в НИИ, где сломалась ЭВМ, приходит слесарь в ватнике, с папиросой, с громадным молотком: "Мастера вызывали?". - Понятно, что я остерегся бы доверить решение своих наболевших проблем такому "мастеру".