 Отчуждение от родителей
Отчуждение от родителей
Автор: Михаил Глебов, февраль 2003
Но главной моей опорой, естественно, оставались родители. Мое отношение к ним в младших классах было двойственным. С одной стороны, их авторитет стоял в моих глазах очень высоко: во-первых, это же были родители, во-вторых, я гордился их высокими и ответственными постами, в-третьих, я видел уважение к ним со стороны других людей - тех же соседей по даче. Мы, например, имели машину - машины тогда встречались у людей нечасто, - и ей управлял отец. Кроме того, он был фронтовик (культ фронтовиков искусственно раздувался в советское время), ко дню Победы он нацеплял колодки своих медалей. Они с мамой закончили мудреный институт и умели вести мудреные расчеты. Мама вообще стала каким-то лауреатом, потому что все сделала гораздо лучше других, хотя те, другие, ей и мешали. Маму знают даже в правительстве; там ей дали большую красивую грамоту. Она аккуратная, умеет пришивать пуговицы и играть на пианино вальс, под который я сильно прыгаю.
С другой стороны - словно я действительно заглядывал на изнанку заглавной страницы, - практически все поступки домашней, т.е. видимой мне, жизни родителей отличались какой-то неловкостью, непоследовательностью, неумелостью, бестолковостью, над которой тихонько посмеивались и наши соседи по даче, и даже Ларионовы. Точнее, до тех пор, пока я смотрел лишь на отца и мать, методика и плоды их трудов казались мне, в общем, удовлетворительными; но стоило заняться тем же самым кому-нибудь другому, как разница кричаще била в глаза. Повторим уже приведенные примеры. Я видел, как аккуратно обрабатывает яблони Валентина, вскапывая землю и выбирая корни сорняков; затем я подходил к матери, чисто формально ковырявшей свои флоксы - и должен был признать, что результаты их деятельности отличаются примерно так же, как золото от позолоты. Я наблюдал спокойную, обстоятельную плотницкую работу Рената - и нервную, беспорядочную стукотню Ивана вокруг своего извечно косого крыльца.
Больше того, и Ренат, и Валентина могли мне толково объяснить, почему они делают так-то и так-то; эти вопросы были вполне доступны детскому разуму, и я их хорошо понимал. Другое дело, что сами их взгляды могли быть ложными, как у бабушки насчет перекопки деревьев; я еще не мог самостоятельно судить об этом; но в рамках принятого ею подхода было вполне логично удалять сорняки, мешающие деревьям, причем удалять не понарошку, а всерьез, т.е. с корнями. Но мать и отец никогда не могли путно ответить на схожие вопросы, а только сердились или несли что-то нескладное. Поэтому я всегда хорошо понимал и мог объяснить другим, отчего Валентина перекапывает яблони так, как она перекапывает, но не понимал и, соответственно, не мог объяснить другим, почему Рита чистит свои флоксы так, как она чистит. И отсюда во мне неизбежно рождалось ощущение какой-то бестолковости и беспомощности, неотъемлемо присущих родителям. В результате мое уважение к ним было скорее абстрактным, презрение же - вполне конкретным. Точно таким же образом советские люди свято верили в мощь нашей державы - и тут же костерили ее за пустые магазины и длинные очереди.
Но еще губительнее для родительского авторитета оказалось их нежелание считаться с моими глупостями. С тех пор, как у меня появилась сказочная Фантазия (снигалка), - а возникла она, как мы помним, в первые же годы моей жизни, - родители объявили ее чепухой и поставили как бы вне закона, отказываясь обсуждать со мной что-либо в рамках снигалки. Но поскольку других рамок у меня де-факто не было, вся моя внутренняя жизнь и внутреннее развитие потекли фантастическим руслом в обход них и их прямого влияния. Мы словно говорили на разных языках, причем родители с самого начала твердо установили, что только их язык является правильным, и только на их языке они будут выслушивать вопросы и давать ответы. Возможно, если бы их ответы действительно имели для меня какую-то цену, их воспитательная политика могла оправдаться; но поскольку я не мог найти у них ответа ни на один действительно волновавший меня вопрос, то мало-помалу вообще перестал спрашивать.
Тогда сложилась совершенно негодная воспитательная ситуация, когда родители, в ореоле своей правоты и величия, сидели у телевизора сами по себе, а мой разум и дух развивались сами по себе, практически за пределами их влияния. Сегодня я понимаю, что так сложилось провиденциально, что я с ранних лет должен был идти собственным путем. Однако здесь, как и во всех подобных случаях, применима евангельская формулировка: "Ибо должно прийти искушениям, но горе тому, через кого они приходят". Видимо, мне было должно работать своей головой; но это не извиняет отца и мать, которые безрассудно пустили мое духовное развитие на самотек. Ведь "свято место не бывает пусто": а если бы я, допустим, связался с какой-нибудь дворовой компанией или попал под влияние тех же Щальевых? Понятно, когда родители перестают вмешиваться в жизнь уже взрослых детей: так оно и должно быть. Но первоклассника мы вряд ли имеем право назвать взрослым.
Когда же "снигалка" как таковая закончилась и я поступил в школу, "дурью" стали объявляться все мои интересы и занятия вне школьных уроков. Стоило мне затеять что-либо новое, как оно, независимо от своих действительных качеств, с порога объявлялось глупостью, причем обосновать такую точку зрения родители обыкновенно не могли. Я не хочу этим сказать, что делал все правильно и разумно; я говорю только, что они даже не считали нужным разбираться, а бранили и презирали все подряд. Как видно, бабушкин тезис о моей дефективности исподволь крепко засел в их мозги, и - что удивительно - с годами все более там укреплялся. Отец часто говорил в мой адрес: "Ты, конечно, умный парень… гм-м… но с заскоком". При этом к "уму" приписывались мои школьные пятерки, к "заскокам" же - все остальное.
Я никогда не держался принципа собственной непогрешимости (наподобие Риты) и был бы очень благодарен взрослым, если бы они помогли ввести мой очередной интерес в конструктивное русло. Но я категорически не мог согласиться с огульным отрицанием всего, чем бы я ни занялся. Эта контрпродуктивная позиция родителей приводила к тому, что мои инициативы полностью выходили из-под их контроля - и потом, естественно, оборачивались падениями ежей в шахту и затоплениями соседских участков.
Мало того, у меня стала складываться совершенно извращенная (и опасная) точка зрения, будто все, что бранят родители, есть хорошо, и напротив, все, что они хвалят, делать не следует. Огульное отрицание ими всего меня естественным образом породило адекватное отрицание всего, что и как они делают. Вместо того, чтобы, как все нормальные дети, учиться у своих отцов тем же домашним делам, я с порога объявлял их навыки глупостью и готов был заимствовать что угодно и у кого угодно, только бы делать иначе, чем они. Если, положим, родители объявили чистку дачных канав и рогозы напрасным трудом и, по удалении Ольги, никогда этим не занимались, я в 1974-75 годах считал прямым своим долгом, превозмогая их недовольство, возобновить эти работы. Конечно, в данном случае родители были правы; но уже сам факт, что так считали они, служил мне гарантией ложности этого мнения. Так бумеранг вернулся: тотальное отрицание моих мыслей и интересов, составляющих мою личность, привело к адекватному отрицанию мной родительских взглядов и интересов, составляющих их личности. Иначе говоря, мы сделались абсолютно чужими людьми.
Но к четвертому классу этот процесс, конечно, еще не мог уйти слишком далеко. Тем более, что у меня теплилась надежда на помощь в действительно серьезных делах: пусть, мол, бранятся, пока все хорошо; но ведь не смогут же они в критический момент бросить меня на произвол судьбы! Жизнь, однако, очень скоро похоронила эту иллюзию.
По мере того, как рос натиск школьных озорников, я стал обращаться к родителям с вопросами "почему", которые производили на них очень раздражающее впечатление. Рита категорически отказывалась меня понимать. Она вздергивала брови и, повторяя слова Валентины, авторитетно говорила, что все ребята приставать не могут, что я, наверное, сам виноват, что мое дурацкое поведение, увешанное снигалками, отравляет мне лучшие годы моей жизни и препятствует дружбе с другими детьми. И тут она скатывалась на воспоминания собственного детства с веселыми салками на переменах, "колдунчиками" во дворе и прочими усладами, совершенно забывая, с чего, собственно, начался разговор. Мои проблемы ее, с очевидностью, нисколько не интересовали.
Отец же сердился еще больше - надо полагать, потому, что он сам прошел через эти мучения и, конечно, понимал ситуацию. Но, во-первых, эти давние воспоминания детства причиняли ему боль и бередили самолюбие; во-вторых, тогда он не отыскал для себя выход, не знал его и теперь; в-третьих, он боялся, что мои расспросы перерастут в прямую просьбу о помощи, которую он так же, с очевидностью, не мог оказать. Он хмурился и говорил, что нападающему следует давать сдачи, чтобы он отстал. "А ты его во-от так!" - советовал он. Я глядел на него в упор, отказываясь верить, будто он в такой степени глуп, что не понимает обстановки. Если же он понимал, но "придуривался", это было настоящее и ничем не оправданное предательство. "Надо уметь стоять за себя!" - храбро говорил отец, поворачиваясь назад к телевизору. И я с похолодевшим сердцем чувствовал, что моя надежда на родителей обернулась пшиком, что отныне я во всех бедах целиком и полностью предоставлен самому себе. Представьте же теперь, каково было десятилетнему мальчику ощутить свое одиночество в чужом и враждебном к нему мире, особенно если вспомнить, что я не имел тогда никакого понятия о Боге!
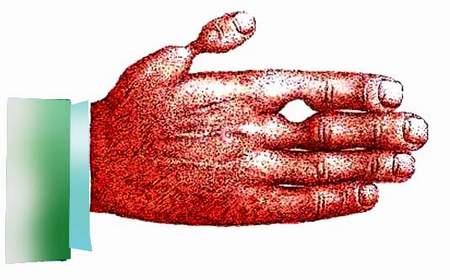
Есть вещи, которые не прощаются. Есть ничем не мотивированные и не оправданные предательства, совершенные не под гнетом опасности, а просто так, чтобы не озабочиваться чужими проблемами. В сущности, я ведь ничего у родителей не просил, я лишь искал теоретического решения проблемы, и даже не решения как такового, а просто - чтобы мне разъяснили ситуацию, как она есть. Я и в те времена был достаточно разумен, чтобы понимать "пределы компетенции" родителей; я знал, что они не всемогущи, и вовсе не требовал от них всемогущества. Я апеллировал к их опыту взрослых людей, к их знанию жизни; они же заранее испугались, что я под этим предлогом "сяду им на шею" и втяну в свои школьные дрязги. Друзья, как известно, познаются в беде. Беда пришла, и я сделал окончательный вывод.
Впрочем, отсюда вовсе не следует, что я, допустим, перестал с ними разговаривать или вообще объявил им войну. Когда люди, даже не любящие друг друга, годами живут в одной тесной комнате и связаны тысячами ежедневных бытовых дел, фундаментальная неприязнь стушевывается, отходит на второй план, так что у них возможны и добрые разговоры, и семейные радости, и много взаимных услуг. Но мы должны понимать, что листва рождается и опадает, а ствол остается. Моя внутренняя связь с родителями, и без того неярко светившая с дошкольного времени, не выдержала этого предательства и потухла.
С этих пор я, за редкими исключениями, старался не рассказывать родителям о вещах, для меня важных, не посвящать их в свои интересы и увлечения. Окончательно освобожденные от этого груза, они воспряли духом и довольствовались моей краткой репликой: "Все нормально". Реальная жизнь моя полностью ушла внутрь меня, если не считать периодических излияний перед сонным и безразличным дедом. Миражи рассеялись, теперь я действительно был один - но я уже и тогда догадывался, что самообман хуже правды, какой бы она ни была. Невероятно тяжкий груз лег на мои плечи, и его приходилось нести куда-то в темное будущее, где не сияло ни единой полоски света.

Читая "Небесные тайны", я наткнулся на ценный фрагмент:
"Сирота" означает тех, в ком пребывает благо без истин, но кто желает быть веденным истинами к благу. (…) "Сирота" означает тех, кто, подобно малым детям, имеет добро, истекающее из невинности, но еще не имеет истин. Говорится, что Господь является их "отцом", потому что Он ведет их, как отец, посредством истин во благо, которое составит их жизнь или, что то же, мудрость. АС 4844
Мне кажется, данный пункт идеально подходил к моему отрочеству. Я действительно удержал с младенчества некое "благо, истекающее из невинности", и сознательно больше всего желал блага, т.е. чтобы мне и окружающим было хорошо жить, и не понимал, отчего все идет наперекосяк, и доискивался причин и путей выхода из этого тупика - следовательно, "желал быть веденным истинами к благу". И поскольку такое положение согласно с духовным понятием "сирота", не оттого ли я эмоционально чувствовал себя сиротой в собственном доме, ибо по факту сохранял с родителями лишь самую внешнюю связь - материальную и бытовую?