 Садовая летопись
Садовая летопись
Автор: Михаил Глебов, август 2003
Известен исторический закон, по которому усиление мощи любого государства неминуемо влечет за собой и расцвет культуры, ибо когда нация пробудилась к действию, ее энергия не может канализоваться лишь в военное или хозяйственное русло, но широко растекается во все стороны, порождая не только героев, но и певцов; времена же упадка, напротив, выявляют острый дефицит и тех и других. То же самое относится и к любому человеку: пробуждение внутренних душевных сил влияет на все его способности разом, и если он обладает хотя бы некоторым даром слова, то и стремится от полноты чувств воспеть собственные деяния.
В моей предыдущей биографии такой всплеск наблюдался лишь единожды - в бурном 1968 году. Затем творчество явно пошло на убыль, стихотворные формы исчезли вовсе (за исключением стиха про Рыжика, сочиненного на гребне эмоционального подъема лета 1971 года), прозаические потуги лета 1972 года мелькнули падучей звездой, не оставив последствий, а дальше я только выписывал из книг исторические факты, что при отсутствии собственных вразумительных комментариев творческим делом названо быть не может.
Но душевное пробуждение 1975 года не могло не всколыхнуть и мою фантазию; впрочем, мой рассудок, еще опутанный дремотой детства, был не готов "взять с места в карьер" ни в каком отношении. В феврале смутное шевеление зародилось вокруг пишущей машинки; здесь мое "творчество" ограничивалось отбором и редактированием перепечатываемых исторических выписок (необходимо признать, что подобная работа все же содержит в себе известное творческое начало). Из этих мелких сырых веточек постепенно разгорелся огонь, которому предстояло набрать полную мощь к весне 1977-го, т.е. через два полных года. В мае-июне я сделал следующий шаг, сочинив многостраничную "историю" Рюриковичей и Романовых, в которой, кроме перечня заимствованных фактов, имен и дат, уже делались робкие попытки хоть как-то их самостоятельно осмыслить и увязать между собой. Но летние приключения пресекли едва наметившуюся "историческую линию" в моей писанине, которая уже больше не возродилась.
Взамен я справедливо решил, что если моя героическая расчистка крапивных завалов вокруг сарая и не заслуживает внимания историков, то все же ее неплохо занести для памяти на бумагу. И это был важнейший поворот моих интересов из отвлеченных фантазий к реальной действительности, хотя бы последняя еще выступала в детски-игровой форме. Ибо перечень московских князей, как и перечень звезд созвездия Лебедь, не имели к моей личности и моей жизни никакого отношения; они оставались чистой развлекательной абстракцией и содержали не больше питательности для души, чем лимонад для желудка. Но обернув взоры своего пробуждающегося разума на себя и свои поступки, и тем более стремясь запечатлеть их на бумаге, я тем самым невольно вступал на аналитические рельсы. Ибо всякий поступок оказывался хорошим или плохим, удачным или неудачным, полезным или бесполезным, - и я, фиксируя его в тетради, тем самым принуждался делать выводы, следовательно, оценивать свои действия; но поскольку оценка невозможна без критериев, на основе которых она выносится, мой разум оказался в необходимости исследовать дело с более широких позиций, нежели конкретный факт ликвидации конкретной крапивины; и это был путь пробуждения моего интеллекта.
Тем не менее, на первых порах говорить об успехах на этом поприще было еще преждевременно, как первая ласточка не может сделать весны. Исходным мотивом выступило тщеславие, когда еще в конце июля я задумал фиксировать по дням свои победы в расчистке хозчасти. Но мне, разумеется, хотелось создать не мелкий сиюминутный очерк, а нечто универсальное и эпохальное, которое, единожды возникнув, должно было существовать и пополняться вечно, покуда на Земле теплится жизнь. Поэтому, с одной стороны, я решился не ограничиваться собственными успехами, но фиксировать все изменения на участке вообще, в том числе делаемые родителями, а также достопамятные события вроде сильного дождичка в четверг или урожая из десяти огурцов в отцовском парнике. С другой же стороны, начинать это повествование с произвольной даты казалось мне несолидным, и я скрепя сердце дождался близкого 1 августа, все свои предыдущие подвиги великодушно предав забвению.
В мансарде всегда лежал известный запас канцелярских принадлежностей, который использовался родителями для экстренных записей (например, о сроках посева семян) и мною для производства писанины; здесь нашлись и чернильная ручка, и цветные карандаши, и даже тонкие школьные тетради в линейку, которых я отчаянно не любил; но поскольку именно в них сочинялись дошкольные сказки и затем "История Снигалки" 1972 года, я решил держаться славных традиций и вести свои записи именно здесь. После некоторого раздумья мой проект получил название "Летописи нашего сада", которая фактически и стала первым письменным памятником моей юности.
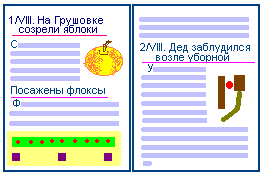 Поскольку я еще на замахивался ни на какую аналитику, а лишь хотел тупо увековечивать события дачной жизни по мере их поступления, "Летопись" состояла из кратких заголовков типа "На Грушовке-водопроводной созрели яблоки" (именно с этого факта и началась тетрадь 1-го августа). Заголовок подчеркивался, ниже следовали две-три пояснительных строчки и иллюстрации: вид на яблоню сбоку (извините великодушно за качество) и желтое яблочко с красным румянцем, старательно перерисованное с натуры. Однако жизнь в саду оказалсь гораздо богаче на события, чем я предполагал; каждый день приносил мне 5-10 фактов разной степени важности; поэтому уже на исходе недели первая тетрадь подошла к концу, и я чувствовал усталость и недовольство. В результате, когда из своих лагерей нагрянула Света, от этого события пострадала не только недочищенная хозчасть, но и летопись. Все же я запасся клочком бумаги и ежевечерне аккуратно заносил туда события, которые надеялся как следует оформить позже.
Поскольку я еще на замахивался ни на какую аналитику, а лишь хотел тупо увековечивать события дачной жизни по мере их поступления, "Летопись" состояла из кратких заголовков типа "На Грушовке-водопроводной созрели яблоки" (именно с этого факта и началась тетрадь 1-го августа). Заголовок подчеркивался, ниже следовали две-три пояснительных строчки и иллюстрации: вид на яблоню сбоку (извините великодушно за качество) и желтое яблочко с красным румянцем, старательно перерисованное с натуры. Однако жизнь в саду оказалсь гораздо богаче на события, чем я предполагал; каждый день приносил мне 5-10 фактов разной степени важности; поэтому уже на исходе недели первая тетрадь подошла к концу, и я чувствовал усталость и недовольство. В результате, когда из своих лагерей нагрянула Света, от этого события пострадала не только недочищенная хозчасть, но и летопись. Все же я запасся клочком бумаги и ежевечерне аккуратно заносил туда события, которые надеялся как следует оформить позже.
Но мое душевное развитие шло слишком быстро, и эротическая встряска как бы подвела черту под прежним отрезком жизни; в осень я вошел, сознавая себя уже другим человеком, и за кормой остался не только перечень князей и ханов, и не только разгром компостного ящика, но и желание придирчиво обмусоливать каждую запятую уже завершившейся дачной жизни. С другой стороны, я еще не успел придумать ничего нового; кроме того, мне было приятно вспоминать свои летние успехи, о которых, собственно, и рассказывала моя летопись. В результате работа над ней шла рывками - то вдруг я одолевал в день по нескольку страниц, уснащенных схемами и рисунками, потом следовала долгая передышка. Между тем мой черновик активно пополнялся фактами осенних дачных работ. За первым "томом" последовали второй, третий, четвертый…
Время между тем покатилось к декабрю, и тогда у меня возникли два очень важных (даже революционных) намерения. Во-первых, отсутствие нового материала, при условии нежелания терпеть до следующего лета, подвигнуло меня включать в ту же летопись и события московской жизни, хотя они совершенно не относились к делу. Так моя писанина робко оторвалась от изначально заданной формы, чтобы трансформироваться в некое подобие семейного дневника. Во-вторых, я, подобно летописцам древности, счел возможным чередовать фиксацию конкретных фактов с так называемыми повестями-вставками типа Слова о Полку Игореве, т.е. связными рассказами о каком-либо событии от начала и до конца; ясно, однако, что такие рассказы предполагают осмысление предмета, выводы и оценку. Так моя писанина стала потихонечку выворачивать на аналитические рельсы, чтобы уже в ближайшее время закрепиться на них твердо и навсегда.
Несмотря на обилие фактов в своем черновике, я исхитрился уместить всю "летопись" 1975 года в четыре тонких тетради, и даже в конце последней осталось немного места. Эти пустые страницы я посвятил дачным собакам, подробно описав характеры каждой. Но тут, оказавшись явно не в состоянии адекватно изобразить их карандашами, я сделал следующий заметный шаг вперед: употребил летние фотографии, сделанные отцом. Приклеивать их означало - портить, поэтому я раздобыл у родителей специальные картонные "уголки" 1950-х годов, которые приклеивались к страницам альбома, и затем в их пазы вставлялись фотокарточки. В результате у меня получился первый крохотный фотоальбом.
Следствия же из этого вышли двоякие. Во-первых, я впервые в жизни обратился к огромному массиву семейных фотокарточек, которые с самого рождения семьи щелкал, печатал и хранил отец, и там кроме собак обнаружил еще много чего интересного; отсюда тянется ниточка к созданию мной следующей осенью "фотоархива". Во-вторых, грубые картонные уголки и плотная фотобумага, будучи приклеены к тонким страницам тетради, настолько их деформировали, что мое эстетическое чувство возмутилось, и я уже не хотел держать в руках эту тетрадь. А поскольку к этому времени описанные там садовые факты уже склонились за горизонт памяти и не представляли никакого интереса, я благополучно сложил свое творчество в архивную коробку и за несколько дней до Нового Года опробовал уже совсем другой тип "летописи", где решительное предпочтение было отдано связному рассказу о жизни нашей семьи; речь об этом пойдет ниже.